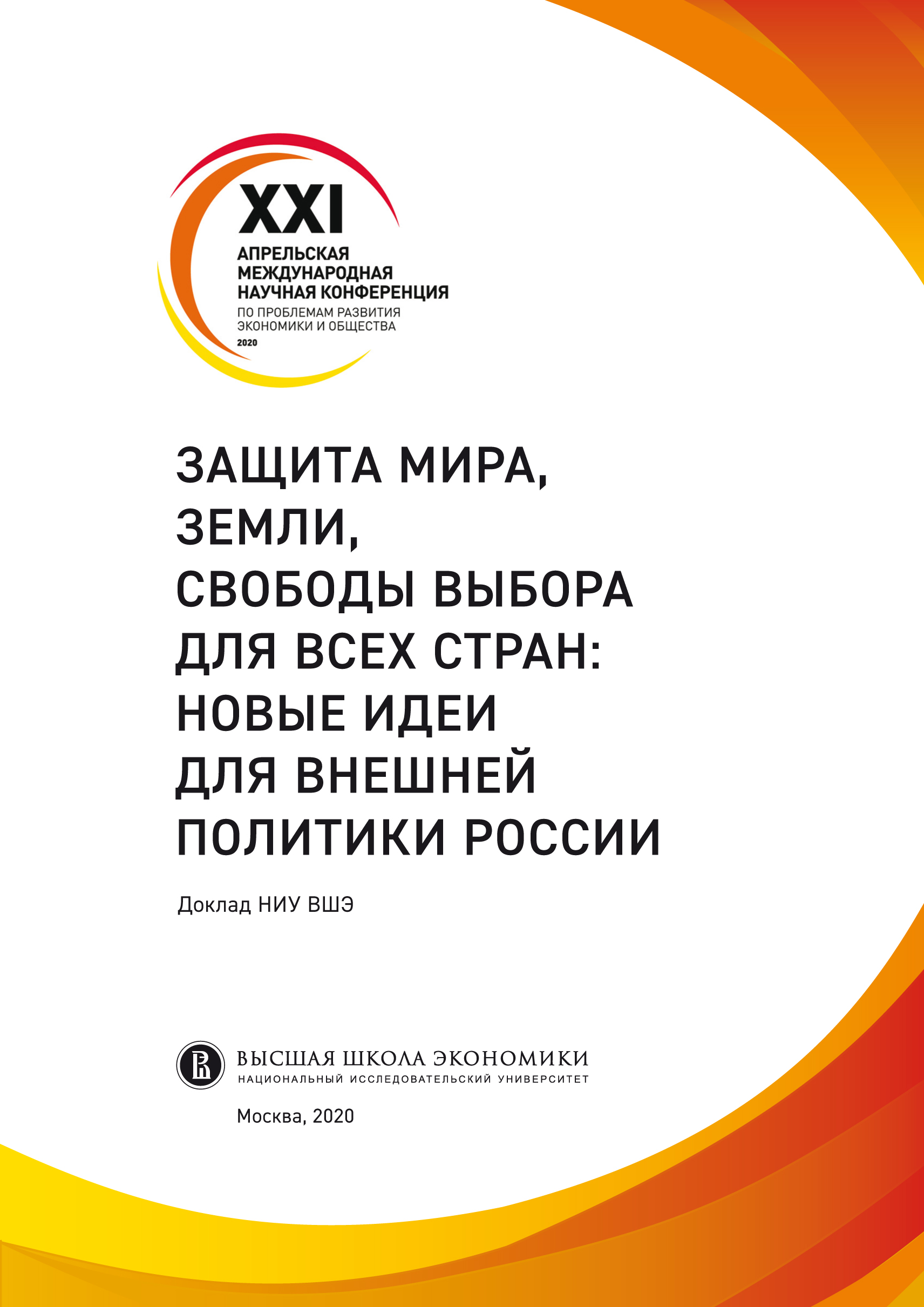Виталий Наумкин, Владимир Барановский: “Мир веры” и “мир неверия”: экспансия и редукция религиозности
Виталий Наумкин, Владимир Барановский
| Журнал «Полис»
Рост религиозности и наступательное движение секуляризма – две параллельные и вместе с тем противостоящие друг другу тенденции современного мирового развития. Во многих частях мира, в том числе и в его исламском сегменте, происходит расширение “зоны неверия”. Но одновременно идет процесс религиозного ренессанса, связанный с характерным для высокотехнологичной эпохи запросом на переосмысление рутинных социально-духовных ценностей и поведенческих стереотипов, поиском духовности.
Одним из направлений становится обращение к традиционным религиям или формирование новых религиозных течений. На этой почве, особенно в сочетании с обострением иных проблемных обстоятельств развития социума, возможны разнообразные сотрясающие его “выбросы”. Вспышки право-и леворадикального экстремизма периодически возникают на политическом поле Европы и Латинской Америки. А в некоторой части исламского мира, не только на Ближнем Востоке, мощный импульс получает религиозный радикализм, причем с весьма драматическими и широкими по масштабам последствиями. Противоречивые тенденции, связанные с фактором религиозности, вписаны в не менее противоречивый контекст глобализации. Создавая предпосылки для диалога религий и для сближения между разными течениями в рамках одного религиозного направления, она одновременно оттеняет их консервирующую, идентифицирующую функцию, что становится частью резистентной реакции социума через оживление и активизацию партикуляризма. В религиозном мире сталкиваются с эрозией ценностей и их десакрализацией. Идет двуединый процесс “экспансия-редукция”, когда может происходить расширение количественных параметров ареала религиозности наряду с корректировкой ее качественных параметров. Хотя в ряде конфессий внутренняя неоднородность остается серьезным фактором напряженности (сунниты–шииты), в целом “мир веры” становится менее ригидным, в том числе и в связи с восприятием элементов иных культур и традиций. Аналогичные тенденции обнаруживаются и в “мире неверия”. Причины и перспективы наблюдаемого всплеска радикализма на Ближнем Востоке надо рассматривать в контексте более фундаментальных долговременных процессов в регионе и в мире и обязательно с учетом как мощных, хотя и противоречивых глобализационных трендов, так и очевидной неисчерпанности религиозных факторов в эволюции социума.
Потрясения, которыми охвачен Большой Ближний Восток[1] на протяжении последнего десятилетия, порождены широким комплексом причин и многокомпонентны. Обобщения касательно всего этого огромного и неоднородного территориального ареала не всегда уместны и должны высказываться достаточно осторожно. Применительно к различным срезам развития социума – в политике, материальном производстве, духовной сфере и т.п. – вряд ли удастся свести к единому знаменателю движущие силы, динамику, направленность и результаты происходящих процессов: картина здесь может складываться очень по-разному.
Но есть одна тема, которая оказывается значимой для всего макрорегиона и затрагивает все стороны происходящих в нем изменений – как эволюционных, так и обрушивающихся на него в своей революционной инкарнации. Речь идет о религиозном факторе и его меняющейся роли в общественном развитии. Эта проблематика, впрочем, имеет отнюдь не только региональное измерение. Важно иметь в виду, во-первых, насыщенный и противоречивый контекст экстрарегионального взаимодействия, и, во-вторых, значимые мегатренды глобального плана.
ДВА ТРЕНДА
Постулат о том, что ислам должен быть альфой и омегой социума, максималистски по содержанию и в запредельно радикальной форме провозглашен и реализован законодательно запрещенным в России движением и институциональным образованием ДАИШ[2], претендующим на государственность. Оно позиционирует себя в жестком и всеобъемлющем противопоставлении всему остальному миру, который такого радикализма не принимает. В призывах предводителя этой экстремистской организации Абу Бакра аль-Багдади, обращенных к мусульманам, провозглашалось: “Поистине, мир сегодня разделен на два лагеря и два окопа, и нет в нем третьего: лагерь Ислама и веры и лагерь куфра [безбожия] и лицемерия, или всеобщий лагерь мусульман и всех муджахидов [борцов за веру] и лагерь иудеев, крестоносцев, их союзников, а с ними и остальных наций и религий куфра, всех ведомых Америкой и Россией и мобилизованных иудеями…”.[3]
Человеку XXI в. такое черно-белое видение мира должно представляться примитивным или, как минимум, поверхностным. Но не будем забывать, что возникает оно не на пустом месте. Гносеологическая составляющая такого подхода достаточно понятна и отнюдь не составляет исключительную привилегию мусульманского взгляда на вещи.
Постигая мир, люди с древности выделяли в нем два противостоящих друг другу начала, что делало его более понятным. Всем появившимся у человечества системам познания действительности был в той или иной степени присущ бинарный подход. Он обнаруживается в основе едва ли ни всех попыток концептуального объяснения сущего, включая и самого человека. Свет и тьма, день и ночь, мир и война, добро и зло, истина и ложь и т.п. Наука говорила о материальной и духовной сферах, религия – о земной и загробной жизни. В отношениях между людьми выделяли друзей и врагов, своих и чужих, хороших и плохих, правоверных и безбожников, праведников и грешников.
В общем плане логика бинарного восприятия действительности лежит за пределами собственно религиозной тематики. Ислам в свое время воспринял эту традицию и воплотил ее в системе своих представлений. Правда, воспринял не механистически, а с продвижением идей и понятий, проистекающих из его видения Вселенной, а иногда и выходящих за рамки изначальных постулатов новой религии.
Средневековые исламские мыслители разработали концепцию дар аль—ислам и дар аль—харб (“мира ислама” и “мира войны” – понятий, которых не было в священном Коране). Однако “мир ислама” противопоставляется не только войне, но также и “миру безбожия” (дар аль—куфр). Так что антагонизм в отношении последнего, исходящий сегодня от ДАИШ, не есть для мусульманской конфессии нечто новое и беспрецедентное. Эти мотивы приобретают экстремальный характер в контексте доводимого до крайности исламского радикализма, который ориентируется на разрушение традиционной международной системы, основанной на организации взаимоотношений между государствами как главными действующими лицами на мировой арене.
Каким образом произойдет разрушение системы? Во-первых, обречена на исчезновение “зона неверия”, куда входят все, за исключением мусульман (причем лишь тех из них, полагают адепты экстремизма, кто следует в русле бескомпромиссной ориентации на идеологию и ценности ДАИШ). И не просто обречена на исчезновение, а должна быть уничтожена: “Аллах открыл людям, что ислам – это религия меча, и только зиндик, то есть безбожник, может утверждать обратное”[4]. Экстремистами табуированы утверждения, что ислам – это религия мира, призывы к межрелигиозному диалогу и т.п.[5]; рассуждения на эту тему (в том числе ученых из Медины и авторитетного образовательно-богословского мусульманского центра в Каире – “аль-Азхара”) свидетельствуют, по мнению фундаменталистов, о “сатанинской межрелигиозной фантазии”. Во-вторых, в победившем “мире веры” будут не нужны границы между национальными государствами, считают экстремисты. “Зона веры” обретет глобальное измерение, и какое бы то ни было религиозно-культурное разнообразие в ней просто исчезнет. Залогом всеобщей гармонии станет, по их мнению, шариат в статусе глобальной идеологии, правовой системы и поведенческого императива.
Взгляд под таким углом на международную систему удивительным образом корреспондирует с представлениями большевиков эпохи иллюзий о грядущей победе мировой революции. Отражением этого была символика государственного герба с помещенным в его центр изображением земного шара. Но ее значение со временем уходило на задний план, оттеснялось актуальными внешнеполитическими императивами. В параметрах политического реализма, постепенно обретавшего в Москве респектабельность, существовавшую на протяжении нескольких десятилетий международную систему – вплоть до недавнего времени – характеризовали как биполярную.
Биполярность стала достоянием прошлого, но и сейчас противопоставление одних стран и сообществ другим продолжается – отчасти по инерции, а отчасти потому, что к тому возникают новые основания. Подобный подход питают реалии самой жизни по широкому кругу параметров. К примеру, дихотомия богатства и бедности разделяет не только отдельных людей, но и целые народы и страны, оставаясь одним из ключевых параметров структуризации глобального мира и системы международных отношений.
В концептуальных построениях всегда в той или иной мере присутствует религиозная составляющая, и сегодня к ней проявляют повышенный интерес. Некоторые аналитики стран Востока заговорили о надвигающемся разделении международного сообщества на “мир веры” и “мир неверия” (или “прочий мир”). Этот тезис показался привлекательным ряду западных политологов. Основания для такой гипотезы у тех и других нередко оказываются разными. Общим можно считать то обстоятельство, что в ней отражается результат столкновения двух очевидных противоположных тенденций в мировом развитии: роста религиозности и наступательного движения секуляризма и атеизма.
Разделение глобального социума на две части по признаку значимости конфессионального фактора достаточно условно хотя бы потому, что оно не учитывает существования разнообразных промежуточных, переходных и неустоявшихся ситуаций. На мировой арене немало “неопределившихся” государств, когда выбор между секуляризмом и религиозностью не сделан или амбивалентен.
Но некоторые реперные точки в вышеупомянутом построении определяются отчетливо. Ядром “мира веры” считаются мусульманские страны Ближнего Востока, в которых религия тесно сплелась с политикой. Ядром же безверия – ультрасекулярная Европа, где религия вытесняется на обочину общественной жизни, не говоря уж о ее полном отделении от политики. Правда, Европа в данную категорию входит не вся, а с изъятиями.
Вариации на эту тему обнаруживаются в различных докладах и прогнозах зарубежных ученых, появившихся в последние лет десять. В той или иной мере в них присутствует посыл о стратификации мирового сообщества по уровню религиозности. В качестве примера можно привести прогноз, представленный в 2007 г. европейским политологом Марком Леонардом. В прогностической работе “Разделенный мир: борьба за первенство” он говорил о формировании “квадриполярного мира” идеологического соперничества, полюсами которого будут: (1) США, (2) Китай и Россия, (3) Европейский союз и (4) Ближний Восток [Leonard 2007: 4].
Только последний из четырех перечисленных ареалов выделен по конфессиональному принципу. Правда, другие составляющие указанной структуры “миром неверия” не названы – в числе прочего и потому, что ситуация в этом плане там неоднозначна (в частности, религиозность в американском обществе весьма высока по сравнению с Европой и Китаем). Отличие ближневосточной зоны, по мысли М. Леонарда, в том, что для нее не характерны ни демократия, ни власть закона [ibid.: 47]. Но исходное противопоставление остальному миру основано именно на роли религии.
Соответствует “бинарный” взгляд на религиозную компоненту мирового развития превалирующим в нем трендам или входит с ними в конфликт? Невозможно отрицать мощное наступление секуляризма (и особенно его наиболее яркой формы – лаицизма). Во многих частях мира, в том числе и в его исламском сегменте, происходит расширение “зоны неверия”. Но одновременно идет процесс религиозного ренессанса, связанный с характерными для высокотехнологичной эпохи поисками духовности.
Многие ищут альтернативу широко распространенным, но банализированным (и потому не вызывающим удовлетворения) рутинным социально-духовным ценностям и поведенческим стереотипам. Запрос на их переосмысление становится более значимым, что особенно ощутимо в глубоко секуляризованных обществах. Одно из направлений поиска – обращение к традиционным религиям или формирование новых религиозных течений.
Вряд ли это можно считать чем-то экстраординарным – хотя бы если вспомнить о том, что религию относят к числу ключевых цивилизационных характеристик (по крайней мере, в рамках интеллектуальной традиции, восходящей к Арнольду Тойнби и продолженной Сэмюэлем Хантингтоном). Важно другое – в чем выражается и как реализуется обращение к этой тематике. Ведь на почве духовных поисков в сочетании с комплексами неудовлетворенности по мотивам экономических условий, статуса, престижа, карьерных перспектив и прочих обстоятельств (особенно важных для молодежи) возможны самые разнообразные выбросы.
Существует, к сожалению, и вероятность развития в сторону радикализма. Вспышки право- и леворадикального экстремизма периодически возникают на политическом поле Европы и Латинской Америки. В некоторой части исламского мира, не только на Ближнем Востоке, получает развитие религиозный радикализм с драматическими и широкими по масштабам последствиями. Есть основания полагать, что именно распространение наиболее радикального, экстремистского субстрата религиозного мышления породило “Аль-Каиду”, ДАИШ и другие террористические структуры (или создало для их возникновения благоприятные условия).
КОНТЕКСТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Тезис о возникающей разделенности мира по признаку значимости религиозного фактора, на первый взгляд, вступает в противоречие с концепцией глобализирующегося мира. Впрочем, с глобализацией и без того возникли серьезные проблемы, хотя еще несколько лет назад она казалось устойчивым и неодолимым мегатрендом. Ее адептам и противникам она представлялась чем-то вроде гигантского смерча, который вот-вот сметет все различия и границы между странами и цивилизациями. Появилось даже понятие, призванное обозначить самую продвинутую фазу этого феномена – “гиперглобализация”, которая продвигает мировое сообщество к единству благодаря быстро идущей технологической революции, в первую очередь в сфере коммуникаций. И вот сама глобализация поставлена под вопрос.
Посмотрим бегло на три основных глобализационных потока: свободное передвижение (i) капиталов и технологий, (ii) людей и (iii) информации. Что здесь произошло в последние лет десять?
На пути первого из них были поставлены барьеры, причем в основном из-за протекционистского курса страны, которая позиционировала себя в качестве лидера “свободного мира” и системы международной свободной торговли – США. Санкционная политика президента Дональда Трампа придала этой линии рутинный характер и одновременно привнесла показную концептуальность. Вместе с тем нередко высказывается предположение о банальных эгоистических мотивах – о том, что решения о санкциях против проштрафившихся перед США правительств, принимаемые якобы для оказания политического давления, продиктованы не только принципиальными соображениями, но и желанием устранить с рынка конкурентов американских компаний и обеспечить наиболее благоприятные условия для американского бизнеса.
Протекционистские ветры дуют и в трансатлантическом пространстве, где уже развернулась или вот-вот начнется настоящая “торговая война”. Все чаще высказывается недовольство работой ВТО, существование которой в сложившихся условиях, по мнению некоторых экспертов, просто потеряло смысл. Достигли высокого накала торговые споры между США и КНР, хотя взаимозависимость товаропроизводителей двух стран заставляет их искать компромисс. Не ясно, чем такой поиск увенчается, но большого энтузиазма на этот счет не высказывают. Процитируем, к примеру, бывшего главу отдела Китая в МВФ Эсвара Прасада: “Учитывая нежелание Китая капитулировать перед требованиями США, трудно найти путь к переговорному урегулированию, при котором не был бы нанесен ущерб торговым и инвестиционным потокам между двумя странами. Торговые санкции Трампа наносят сильный удар по растущей глобальной интеграции”[6].
Возникли проблемы на пути реализации интеграционных договоренностей в Евразийском экономическом союзе. Приведем высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммите указанной организации в мае 2018 г.: “Сегодня именно региональные интеграционные объединения создают предпосылки для роста мировой экономики. А мы вместо того, чтобы свободно торговать, закрываемся друг от друга. Более того – обмениваемся взаимными претензиями даже в средствах массовой информации, рискуя международным авторитетом союза. Мы игнорируем цивилизованный способ решения торговых споров через Евразийскую экономическую комиссию”[7].
Человек, которого считают воплощением антилиберальных политических устремлений и приверженцем жесткого отстаивания национальных интересов, выступает с глобалистско-интеграционных позиций. В этом есть какая-то парадоксальная (почти кафкианская) символика сложившегося положения дел с формированием общепланетарного экономического пространства, в котором предполагается наладить унифицированные правила функционирования, обеспечить свободу от внутренних барьеров и свести к минимуму возможности государств навязывать контрагентам свои эгоистические приоритеты.
Все больше препятствий возникает на пути свободного передвижения людей. Миграция рассматривается европейскими государствами как едва ли не самая серьезная проблема и один из главных вызовов для национальной безопасности. Это оказывает влияние на внутриполитическую ситуацию, подогревая рост ксенофобии и популизма, способствуя выходу на политическую авансцену националистических партий и движений. Острота проблемы усугубляется как ростом миграционного давления, которое в обозримой перспективе будет расти, так и проникновением на континент под видом беженцев бывших боевиков, членов радикальных исламистских организаций.
В то же время для Европы, как и для некоторых других регионов мира, характерен такой устойчивый тренд, как старение населения, который, вероятно, в перспективе будет только усиливаться. В результате увеличивается потребность в притоке рабочей силы из-за рубежа, что может способствовать нагнетанию мигрантофобии среди населения и дальнейшему росту противоречий между государствами Евросоюза. Для преодоления культурного диссонанса, возникающего в результате переселения в Европу больших масс жителей стран Ближнего Востока и Африки, требуются время и продуманная скоординированная политика.
В Европейском союзе этим проблемам уделяют пристальное внимание, и постепенно политика интеграционного объединения по проблемам миграции и беженцев обретает большую продуманность и скоординированность. В 2018 г. о положении дел уже не говорили как о кризисе, и перспективы виделись не такими драматическими, как было несколько лет назад. Однако на радужных представлениях о свободном перемещении людей по мере усиливающейся глобализации, наверное, поставлен крест.
Среди всех факторов развития социума наибольшим глобализационным потенциалом обладают информационные потоки. Они – предпосылка, проявление и следствие технологической революции; помешать им невозможно, не поставив под угрозу ее сущность, высокий темп и широчайшие масштабы. Но и здесь все больше ограничителей. Введение некоторых их них продиктовано стремлением поставить заслон распространению идей экстремизма, призывам к террору, апологии насилия, разжиганию национальной и религиозной розни. Необходимость и оправданность других нередко вызывает сомнения. Есть государства, прибегающие к регулированию допуска своих граждан к интернету и жесткому фильтрованию контента по идеологическим соображениям. И тогда подрывается не только единство важного сегмента глобального информационного пространства – могут возникать и серьезные разногласия в отношении характера и масштабов принимаемых мер, становясь дополнительным фактором эрозии глобализации в информационной сфере. А когда высокие барьеры, касающиеся доступа к информации, становятся маркером дефицита демократии и свободы слова – эффект деглобализации оказывается еще более значимым по причине проникновения в сферу политики.
Еще одна важная сторона вопроса – возможность ограничительных действий в информационной сфере по соображениям безопасности. Поскольку сама эта сфера приобретает ключевое значение для безопасности (информационные войны, кибероружие и т.п.), требуется минимизировать уязвимость собственной инфраструктуры в отношении возможных угроз и создать инструментарий для превентивного сдерживания или нейтрализации возможных враждебных действий. И то, и другое подрывает глобализацию в информационной сфере.
Таким образом, по всем трем рассмотренным направлениям глобализация сталкивается с серьезными проблемами, тормозящими ее развитие, а иногда и вызывающими попятное движение. Может, феномен глобализации и представляет собою тот случай, когда надо выйти за рамки традиционного бинарного дискурса, а применительно к прогностическим задачам – не сводить все к жесткому выбору по формуле “или – или”.
Глобализация идет несмотря на возникающие контртенденции, и остановить ее не могут ни объективные обстоятельства, ни тем более политические решения, даже когда за ними стоят авторитет и возможности самых могущественных государств. Все они в возрастающей степени пользуются создаваемыми ею возможностями и сталкиваются с порожденными ею же проблемами. Глобализацию душит партикуляризация, но последняя активизируется именно как реакция на усиливающуюся универсализацию, удручающую обезличенность. Два взаимно противоположных, конкурирующих и усиливающих друг друга тренда, причудливо сочетающихся между собой.
Разве не такую же неоднозначную картину мы видим и при попытках выявить превалирующие тенденции религиозности в современном мире – то ли она переживает ренессанс, то ли, наоборот, отступает под усиливающимся натиском секуляризма? Здесь возникает вопрос о взаимодействии роста религиозности и глобализации как мегатрендов (при всей условности этого термина применительно к данному случаю – ведь вопрос стоит о том, как накладываются друг на друга две амбивалентности).
Некоторые аналитики полагают, что у них взаимно противоположные векторы. Религия и культура ослабляются глобализацией, считает американский автор Роберт Каплан, поэтому “их нужно воссоздавать в более суровой, монохроматической и идеологической форме с помощью коммуникационной революции”[8]. Иначе становится возможным такой феномен, как “Боко Харам” – одна из террористических организаций, которая “представляет не ислам как таковой, а ислам, который зажигают тираническая конформность и массовая истерия, инспирированная интернетом и социальными медиа”[9].
Если рассматривать религии как сложный конгломерат метафизических взглядов, организационных структур, обрядовых и культовых практик, этических ценностей и поведенческих норм, то они нуждаются в адаптации к новым реальностям, которые возникают в процессе и результате глобализации. Такая адаптация может происходить через принятие или отторжение глобализирующих влияний, а также путем генерирования собственного “глобального продукта”. Последний – одновременно и ответ на вызов глобализации, и ее часть. В этом обнаруживается глобализирующая роль религии.
Для ислама, к примеру, “вклад” в глобализацию связан с таким феноменом, как всемирная транснациональная умма (сообщество мусульман, включающее в себя всех приверженцев этой религии, которая объединяет их узами солидарности). Этот компонент глобального социума имеет вполне материальный характер, однако известный французский исламовед Оливье Руа говорит об умме как “воображаемой” реальности [Roy 1999].
Логика такого видения в том, что приверженцы ислама – прежде всего граждане национальных государств (причем не только мусульманских, но и тех, где они составляют меньшинство) и лишь во вторую-третью очередь – солидарные члены всемирной уммы. Но в Европе сегодня проживает более 30 млн мусульман. Верно, что лишь в отдельных балканских государствах они составляют большую (или близкую к этому) часть населения. Применительно к континенту в целом речь идет о конфессиональном меньшинстве, однако в ряде стран – значительном и, главное, быстро растущем. И здесь уже можно говорить о существующих или складывающихся узах трансграничной солидарности внутри конфессионального сообщества.
Правда, в его отношении к глобализации заметны элементы консервативного настроя. Во многих мусульманских (в первую очередь ближневосточных) обществах она принимается лишь в той мере, в какой не противоречит установке на закрепление цивилизационной самобытности. Для последней именно ислам – один из ключевых идентификационных маркеров. Будет ли он также ключевым индикатором, по которому оказываются разделенными “мир веры” и “мир неверия”? Входят ли в первый исключительно мусульмане (или даже только “правильная” их часть – из ближневосточных обществ), а во второй – все остальные (включая, в частности, христиан)? Или здесь играет роль не столько конфессиональная принадлежность, сколько различия в соотношении религии и политики?
В Европе их разделение восходит к эпохе возникновения протестантства, которое, в своей критике официальных католических структур инкриминировало им, в числе прочего, излишнее и своекорыстное вовлечение в политическую борьбу. Британский религиовед Карен Армстронг писала о тех временах: “Европейцы и американцы стали разделять религию и политику; они полагали (не вполне точно), что Тридцатилетнюю войну вызвали только споры вокруг Реформации. Убеждение, что религию следует полностью исключить из политической жизни, стало ‘мифом-хартией’ суверенного национального государства. Философы и государственные деятели, проложившие путь этой догме, думали вернуться к более благополучному состоянию дел, которое существовало, пока властолюбивые католические священники не смешали две совершенно разные сферы” [Армстронг 2016: 2].
С XVI-XVII вв. Европа и Запад далеко продвинулись по этому пути. “Разделение религии и политики, – утверждает Армстронг, – укоренилось до такой степени, что нам теперь сложно себе представить, насколько тесно они были прежде связаны” [там же]. Ведь вплоть до раннего Нового времени разделить нерасторжимо связанные религию и политику, действительно, было бы “так же трудно, как извлечь джин из коктейля”. Глубоко сакральным смыслом нагрузили многие виды деятельности (“сведение лесов, охоту, футбольные матчи, игру в кости, астрономию, земледелие, строительство государства, перетягивание каната, планировку городов, торговлю, винопитие и особенно войну” [там же]), которые сегодня вряд ли кто свяжет с верой.
То, что для христиан осталось в далеком прошлом, в исламе звучит актуально и злободневно. Он не только не отстраняется от политической жизни, но втягивается в нее все сильнее. Значит ли это, что мусульмане в данном вопросе стадиально “завязли” в начале Нового времени и им еще только предстоит пройти по пути секуляризации социума? Или дело в имманентно присущей исламу привязке к политике?
Оставим вопрос открытым и лишь отметим общеизвестное. Во-первых, важнейшая особенность ислама – его притязания на то, чтобы быть стержнем функционирования социума во всех без исключения сферах (в том числе и в сфере политики). Хотя формы реализации притязаний могут варьироваться в достаточно широких пределах – в зависимости от страны и с течением времени. Во-вторых, ислам в своем историческом генезисе теснее связан с проблемой власти, чем любая другая религия, и именно на этом поле возникли разногласия, которые стали первоначальной основой разделения мусульман на суннитов и шиитов.
НА ПУТЯХ АДАПТАЦИИ
Между тем указанное разделение не только сохраняется, но иногда даже усугубляется в плане растущей конфронтационности. И это еще больше размывает картину формирования “мира веры” даже в его эксклюзивной вариации – т.е. такой, которая отвергает включение в него “чуждых” компонентов. Здесь, собственно, проблема не только для ислама, но и для любых религиозных идеологических систем, в которых универсалистские ориентиры вступают в конфликт с внутренней диверсификацией. Из этого же ряда – препятствия на пути продвижения идей экуменизма в христианстве.
Обнаруживается тот же парадокс глобализации, о котором шла речь выше. Создавая предпосылки для диалога религий и для сближения разных течений в рамках одного религиозного направления, она одновременно оттеняет их консервирующую, идентифицирующую функцию, что становится частью резистентной реакции социума через оживление и активизацию партикуляризма.
В числе общих для “мира веры” и “мира неверия” проблем (если принимать такое разделение) – эрозия религиозных ценностей и десакрализация. В Германии, например, полностью опустевшие храмы используются в качестве увеселительных заведений (причем процесс такого перепрофилирования носит “естественный” характер, в отличие от того, что происходило в нашей стране в 1920-1930-е годы, когда энтузиасты борьбы с религиозными предрассудками стремились превратить культовые здания в “избы-читальни” или “дома культуры”). Наблюдается кризис религиозных институтов, многие обычаи и ритуалы уходят в прошлое. Даже в России – где, как многие полагают, религиозность значительно выше, чем в большинстве государств Европы, но которую, с учетом происходящей в этой сфере динамики, нет оснований считать эволюционирующей в сторону “мира веры”. По данным опросов, на 2017 г. среди православных христиан, которых в России около 80%, верят в Бога две трети, а соблюдают посты и ходят в храмы лишь 4%[10]. Правда, среди мусульманского населения число соблюдающих обряды ислама выше, но общую картину это существенным образом не меняет.
Политические императивы способны войти в клинч с устойчивыми религиозно-этическими установками. Причем обнаруживается это в действиях даже тех сил, которые позиционируют себя как религиозные. У глубоко верующих людей подробности таких метаморфоз иногда могут вызывать содрогание. Йеменские повстанцы из движения “Ансарулла”, которых принято называть хуситами (по родоплеменной принадлежности большинства членов), расправились с экс-президентом страны Али Абдаллой Салехом 4 декабря 2017 г. По канонам, которые надлежит неукоснительно соблюдать истинным приверженцам ислама, погибшего надо было уже на следующий день предать земле с соблюдением всех ритуалов. Однако тело убитого на протяжении многих месяцев держали в холодильной установке, превратив его в своего рода товар, который можно было бы использовать во внутриполитических трансакциях непрекращающейся гражданской войны. То есть накал и длительность внутреннего вооруженного конфликта побуждает даже тех, кто выступает за возврат к исконным ценностям ислама (а это именно случай хуситов), не соблюдать его важнейшие обычаи и преступать базовые этические установки. Но конечно, они адресуют такого же рода обвинения и негодование своим оппонентам – тем, кто подвергает территорию страны жестоким бомбардировкам и повинен в гибели многих невинных жертв, что совершенно неприемлемо с точки зрения базовой этики ислама.
В целом можно говорить о вполне постмодернистском тренде – усиливающихся сомнениях относительно некоторых важнейших норм, принципов, ритуалов, которые традиционно воспринимались как требующие неукоснительного соблюдения, но обязательность которых сегодня отнюдь не безусловна. Это – важная черта происходящего в связи с социальным поведением и феноменом религиозности вне зависимости от разделения/неразделения мира по лекалам “веры” и “неверия”.
Иногда процесс десакрализации рассматривают в контексте постсекуляризма [Кузнецов 2017: 105] с его пафосом модернизации религии и даже трактуют как ее упрощение. Такой взгляд высказывают не только исламоведы, но и исследователи буддизма, отмечающие ослабление требований к его приверженцам и редуцирование роли вероучительного компонента для их основной массы. Возможно, речь идет о том, чтобы создать некую упрощенную версию религии, когда вера окажется избавленной от излишней размышлительной основательности, но зато к ней будет легче приобщиться.
Если религия лишается высокой сакральности и становится ближе к людям – число ее последователей не только не снижается, а даже возрастает. Однако для все большего числа верующих она фактически сводится к ритуалам и этическим принципам, которые к тому же вовсе не обязательно неукоснительно соблюдать. Иначе говоря, идет двуединый процесс “экспансия–редукция”. Происходит расширение количественных параметров ареала религиозности наряду с корректировкой ее качественных параметров.
Нет оснований считать это чем-то принципиально новым. Ведь и в прошлом “сокровенное знание”, адресуемое более широкой аудитории, должно было к ней адаптироваться – по языку, ритуалам, умению донести message и т.п. Масштабы явления возросли, но трудно представить, к примеру, чтобы рядовые буддисты-тибетцы когда-либо могли полностью освоить и сделать своим повседневным жизненным ориентиром такие обширные религиозные тексты, как Канджур и Танджур. Первый представляет собой 108-томный сборник высказываний Будды, второй – 235-томный сборник переводов шастр. Как считают индийские авторы Арчана Шукла и Винеет Дикшит [Shukla, Dikshit 2009: 47], даже просто обладание текстами и в прошлом рассматривалось людьми как инструмент поддержания определенного социального статуса. Столь же мало оснований полагать, будто большинство рядовых мусульман знают все тексты шести “правильных” сборников хадисов пророка Мухаммада (хотя заучивание наизусть текста всего Корана довольно широко распространено во многих обществах ареала распространения ислама).
Конечно, функцию доведения содержания религиозных текстов до рядовых верующих и их трактовки во всех религиях выполняют священнослужители, учителя религии и религиозные ученые, богословы и теологи. Восполняется и обновляется эта страта с помощью религиозного образования. В исламе, например, оно проходит сегодня через болезненный этап трансформации, что не обошло стороной и российских мусульман. Достаточно упомянуть о недавнем конфликте в Ингушетии вокруг одной из школ подготовки хафизов[11] в поселке Долаково, куда 1 марта 2018 г. нагрянули бойцы Росгвардии[12].
Но не будем толковать модернизацию во всех религиях исключительно как упрощение, это само по себе было бы упрощением (или, по крайней мере, односторонней трактовкой происходящего). Скорее можно говорить о некотором “обмирщении” в процессе религиозной десакрализации. В тибетском буддизме, например, модернизация находит выражение в том, что монахини, которым ранее запрещалось посещать монлам (праздник молений за мир и процветание, приходящийся на первый тибетский месяц), уже с 1994 г. по решению далай-ламы могут это делать. Невольно возникает аналогия с изменением отношения к женщине в мусульманских сообществах и предоставлением ей возможности выполнять функции, которые ранее были привилегий мужчины. Кстати, в исламе именно на этом поле – в вопросе об отношении к женщине – и возникает один из главных узлов столкновения архаического традиционализма с модерностью и, более узко, с западной культурой. Показателен курс наследника престола самой консервативной арабской монархии – саудовской – Мухаммада бин Сальмана на проведение ряда реформ по изменению отношения к женщине и ее правам в русле либерализации.
Насыщенной и символическим, и содержательным смыслом стала отмена запрета на вождение автомобиля женщинами. А ведь эта тема перекликается и с прокатившимися по ряду европейских стран баталиями вокруг ношения никаба/паранджи и даже хиджаба.
В буддизме ламаистского толка тенденция к “обмирщению” проявляется в меняющемся отношении к ламам. В прошлом получить благословение у них было редкой удачей, поскольку монастыри располагались в труднодоступных местах, а общение с проживавшими там священнослужителями и их поведение строго регламентировались. “Ламам запрещалось ходить на рынок или к кому-либо, если это не было связанным с семейными делами. Женщины не могли появляться в монастырях, а мирянам не позволялось оставаться там после захода солнца” [ibid.: 50]. Сегодня все эти ограничения отменены: ламы стали жить не в монастырях, а в обычных поселениях, и их харизма постепенно исчезает.
“МИР ВЕРЫ”: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
“Мир веры” становится менее ригидным и в связи с восприятием элементов иных культур и традиций, что происходило в прошлом и имеет место сегодня. Ритуалистическому редуцированию тибетского буддизма способствует архаизация – культивируемые им черты древней религии бон, господствовавшей в Тибете до VII в. и обычно характеризуемой как анимистическая и шаманская. Они органично вошли в местный буддизм, привнеся декоративную символику и материальный реквизит, который облегчает ритуализацию. “Добуддийские обычаи и связанная с ними символика и сегодня остаются в тибетском обществе, – пишет А.В. Аракери – Стены домов украшены замысловатыми фигурами и значками, представляющими божества старой религии. Символы четырех элементов: тигр, лев, орел и дракон – все еще используются в буддийской философии” [Arakeri 1998: 249-250]. Кстати, в России группа бурятских последователей шаманизма выступила за признание его самостоятельной религией.
Заметим, что в исламе тенденция инкорпорирования элементов верований, господствовавших ранее у народов, принявших эту религию, давно актуализовалась в суфизме. Суфийская практика зикра – ритмических движений с распеванием религиозных формул, в принципе напоминающих медитацию – в некоторых мусульманских обществах выродилась в некое ритуальное действо, зачастую лишенное подлинно духовного содержания. Но в целом эксклюзивизм, когда отношение к инорелигиозным воззрениям формулируется в категориях противопоставления и противостояния, отнюдь не стал достоянием прошлого. Подобные симптомы можно наблюдать и в Иране, и в Индии, где они отражают архаический тренд, сохраняющий свой потенциал, несмотря на модернизацию, глобализацию и десакрализацию.
В качестве примера упомянем ситуацию в Мьянме, где конфликт вокруг проблемы этноконфессионального меньшинства рохинджа привел к обострению отношений между приверженцами буддизма и ислама. На этой волне появляется националистическая буддистская Партия национального развития, которая быстро набирает популярность. Один из ее руководителей так сформулировал задачу партии: “защитить нашу религию и нашу религиозную идентичность” [цит. по: Бектимирова и др. 2016: 155]. Вследствие межконфессиональных столкновений в штате Рокхайн и взлета антиисламских настроений на последних парламентских выборах из большого числа кандидатов-мусульман было зарегистрировано лишь 28 человек, а в парламент не попал ни один мусульманин [там же: 155-156].
Здесь обнаруживается общая проблема взаимоотношений и взаимовлияния разных религиозных – и не только – культур. В частности, распространение в современных религиях архаизации или иных консервативных трендов часто объясняют необходимостью противостоять западной секулярной культуре как значимому эндогенному фактору. Перед мощным цивилизационным натиском Запада именно религия как маркер идентичности помогает устоять многим незападным сообществам. В этот маркер включен некий “оградительный императив”, который порой выступает в виде сверхреакции – имплицитного оправдания или даже поддержки таких уродливых явлений, как экстремизм и терроризм.
Происходит это не из-за феномена религиозности, которая лишь придает специфическую форму ответу на вмешательство Запада во внутренние дела исламских государств. Это важно особенно в тех случаях, когда таковое воспринимается как сориентированное на смену режима и насильственное насаждение чуждых порядков. Обратимся еще раз к Карен Армстронг: “Запад несет не всю ответственность за экстремистские формы ислама, которые насаждают насилие, разрушающее самые сокровенные законы религии. Но Запад, безусловно, внес вклад в появление любой их фундаменталистской версии” [Armstrong 2002].
Представление о воинственном характере ислама в сравнении с другими религиями часто аргументируется тезисом о роли джихада. Стоит напомнить, что в исламском вероучении, если обращаться к базовым постулатам, джихад – усилие, которое должен предпринимать верующий мусульманин для победы набожности и исламской нравственности в самом себе. И лишь в отдельных случаях для защиты веры, жизни или собственности мусульман оправдано и необходимо браться за оружие (большой и малый джихад).
Конечно, эти случаи могут трактоваться очень по-разному. Радикально настроенные экстремисты объявляют о “ясной, основанной на Коране и Сунне обязанности вести джихад против язычников, пока всем миром не станет править шариат”[13]. По словам основателя ДАИШ, “ислам ни дня не был религией мира. Ислам есть религия войны. [Пророку было велено] воевать до тех пор, пока [люди] не будут поклоняться лишь одному Аллаху…”[14]. То есть это совершенно очевидный клинический случай – призыв к тотальной войне со всеми иноверцами до полного их уничтожения или подчинения.
В мусульманском “мире веры”, как известно, существует широкая оппозиция ДАИШ. Поскольку апологеты этой ультрарадикальной структуры, пытаясь привлечь на свою сторону верующих, в своих концепциях исходили из сакральных исламских текстов, ее противники также обращались к Корану и Сунне, предлагая иную интерпретацию основ религиозного вероучения Пророка. А известный сирийский шейх шазилийского суфийского ордена и создатель организации “Священное знание” Мухаммад аль-Йа‘куби вступил в прямую публичную полемику с основателем ДАИШ: “…Утверждение о том, что Пророк был послан только с мечом и ему было велено вести войну до тех пор, пока не станут поклоняться лишь одному Богу, является вопиюще неверной интерпретацией миссии Пророка. В действительности подобное заявление представляет собой в чистом виде преднамеренное искажение истории Пророка”. И далее: “А те, кто утверждают, что Ислам не является религией мира, открыто противостоят словам Бога, переданным в Священном Коране. Более того, Всемогущий Бог также повелевает Его Посланнику (и каждому верующему после него) выбирать мир, если враги предпочтут мир войне…” [Al-Yaqoubi 2016: 76-78].
Богослов обвиняет террористов ДАИШ, сжигавших людей заживо, не просто в чудовищной жестокости, а в отходе от заповедей Пророка, что еще хуже [там же: 27]. Он издал фетву о том, что сражаться с ДАИШ – одна из обязанностей мусульман для того, чтобы “защитить основу религии, отстоять земли мусульман, сохранить кровь невинных и позволить восторжествовать истине” [там же: 84]. С помощью Сунны обосновал тезис об уважении к немусульманам, прибывающим из “мира неверия” в мусульманские страны: они должны быть в безопасности, находиться под защитой контракта о мире и покровительстве, а обманывать или причинять им вред запрещено. Экстремисты ДАИШ подвергнуты проклятию за изгнание людей из жилищ, городов и деревень, захват собственности, практику мародерства (запрещенную Пророком), порабощение езидских женщин и детей и продажу на рынках (что “нарушает социальный контракт, давно установленный между езидами и мусульманами”) [там же: 101].
Важно иметь в виду еще одну сторону проблемы: для многих, кто интерпретирует джихад в агрессивном духе, это есть своего рода реакция на агрессивный секуляризм, в котором видят угрозу мусульманской идентичности. Экстремистское толкование джихада современными радикалами опасно и требует энергичного противостояния; но оно не должно быть поводом для встречных экстремистских заключений и обобщений, распространяемых на все вероучение и на всех его последователей. Доктринальные крайности встречаются во всех религиях, в том числе в христианстве и буддизме. К примеру, в буддизме традиция текстов “Калачакра-тантры” допускает в качестве ответа на агрессию превращение внутренней, духовной борьбы во внешнюю [Агаджанян 2005].
Есть основания для того, чтобы говорить о меньшей роли насилия в буддизме, но известны и факты совершенных буддистскими монахами политических убийств в Шри-Ланке и странах Юго-Восточной Азии. Наверное, здесь надо иметь в виду неравномерность политизации монашества – этот процесс временами усиливается, а порой сходит на нет. Вспомним протестные самосожжения буддийских монахов во времена войны во Вьетнаме (такие, например, как самосожжение монаха Куан Дыка в Сайгоне в 1963 г.).
Другой пример – секта Аум Синрикё[15], заставившая вспомнить о себе недавно в связи с казнью Сёку Асахары и его сподвижников. Секта все-таки стала явлением исключительным для буддийской среды (хотя в своей идеологии и содержала вкрапления из других религиозных систем). Но в мировоззрении её адептов признаки антиглобализма и социального протеста причудливо сочетались с элементами “слепого терроризма”, превращающего в жертв ни в чем не повинных случайных людей. Как это бывает и в акциях террористов, действующих от имени ислама на Ближнем Востоке и за его пределами.
В последние десятилетия в исламе уверенно набирало силу ярко выраженное негативное отношение к секуляризму. В сборнике постановлений и рекомендаций Совета Исламской академии правоведения (фикха) при Организации исламского сотрудничества, распространявшемся в нашей стране на русском языке, говорится: “Секуляризм представляет собой объективистскую систему взглядов, основанную на принципе непризнания Бога (атеизме), являющуюся антагонистическим по отношению к Исламу течением, солидаризуясь с мировым сионизмом и другими разрушительными и все дозволяющими течениями, которые отвергаются Аллахом, Его Посланником (САС[16]) и верующими”[17].
В Турции, конституционно секулярной стране (единственной на Ближнем Востоке, где светский характер государства закреплен в основном законе), период правления Партии справедливости и развития во главе с Реджепом Эрдоганом характеризуется медленным, но последовательным процессом реисламизации; в общественно-политической жизни заметнее ощущаются религиозные интонации.
В буддизме мотивы антисекуляризма выражены слабее в сравнении с авраамическими религиями. Высказывается мнение, что это обусловлено достаточно зыбкой, не столь рельефно прочерченной границей между духовным и светским в буддийской традиции [Агаджанян 2005].
Отметим различия в отношении к иноверцам. В исламском вероучении было заложено не только позитивное отношение к представителям других монотеистических религий, но и толерантность касательно последователей немонотеистических религий, язычников и неверующих. Однако в реальной жизни и правовая практика, и богословский дискурс характеризовались развитием тенденции эксклюзивизма, особенно с XI в. Буддизм в целом лишен подобных представлений, но элементы нетерпимости в ареале его распространения все же есть, хотя они не имеют концептуальной значимости и присущи скорее отдельным группам и индивидам.
Дилемма инклюзивность vs эксклюзивность может парадоксальным образом затрагивать и базовые темы в других религиозных воззрениях. Выше упоминалось понятие уммы; в современном исламском мире ее принято относить исключительно к мусульманам. Но в Средние века была также традиция расширительной трактовки этого понятия как относящегося ко всему живому[18] – традиция, нашедшая свое отражения даже в Коране[19] и “правильных” хаджах[20]. Уже в Новое время на основании ряда работ средневековых арабских лексикографов автор знаменитого толкового словаря английский арабист Эдвард Лэйн заключил, что умма – “люди, к которым ниспослан пророк, в том числе верующие и неверующие” [Lane 1984: 90]. Среди сегодняшних фундаменталистов много таких, которые сочтут включение в умму неверующих возмутительным святотатством.
Серьезные расхождения по многим доктринальным и практическим вопросам существуют между тремя основными течениями исламистов – “братьями-мусульманами”[21] (вместе с близкими к ним структурами), салафитами и джихадистами. Последние, например, сориентированы антисистемно в сравнении с “братьями-мусульманами” и салафитами, осуждают их за участие в выборах и провозглашенную приверженность исключительно мирным методам борьбы за власть. Но и внутри каждого из трех направлений велико разнообразие взглядов и интерпретаций исламского вероучения.
В целом лишь запрещенные группы джихадистов – апологетов насилия – категорически отказываются от принятия каких-либо элементов электоральной демократии и плюрализма, тогда как “братья-мусульмане” приняли западные стандарты политической деятельности, а также отказ от насилия как средства политической борьбы. Однако представители различных школ внутри этого течения по-разному смотрят на так называемый турас (наследие исламских ученых прошлого): традиционалисты полностью опираются на него и четыре мазхаба суннизма, а “модернисты”, последователи Мухаммада Абдо и основателя движения Хасана аль-Банны, призывают руководствоваться Кораном и Сунной, практикуя иджтихад (собственные юридические заключения). Салафитам и ваххабитам, часть из которых примкнула к “братьям” в 1970-х годах, присущ более низкий уровень толерантности. Чрезвычайно политизированная интерпретация Корана и Сунны и нетерпимость к другим мусульманам и иноверцам отличает последователей учения Сейида Кутба – одного из радикальных идеологов-исламистов, казненного в Египте в 1966 г. Однако кутбисты, действующие внутри движения “братьев-мусульман”, считают необходимым отказ от насилия и концепции такфира (позволения предавать анафеме и уничтожать тех, кто недолжным образом соблюдает законы ислама).
Создание в 2011 г. “братьями-мусульманами” Партии свободы и справедливости (ПСС) стало знаком преодоления антисистемных тенденций в этом движении. Однако до сих пор ведутся дебаты о допустимости и целесообразности этого шага. Как известно, и салафиты Египта создали свою политическую партию, или блок “Ан-Нур” (“Свет”), легально действующую до сих пор. Различные группы исламистов по-разному смотрят и на вопрос о месте христианского населения в исламском государстве, которое они хотят построить.
Египетских исламистов всех направлений объединяет негативное отношение к продаже алкогольных напитков и азартным играм. Согласны они и в том, что в исламском государстве женщины-мусульманки должны соблюдать соответствующий дресс-код. Важное место в культивируемом мусульманском сознании занимают мотивы социальной справедливости, равенства, терпимости и практического милосердия. “В течение веков мусульмане не всегда жили в соответствии с этими идеалами и часто испытывали трудности с их продвижением в свои социальные и политические институты. Но борьба за то, чтобы добиться этого, в течение столетий была главной движущей силой мусульманской духовности. Западные люди должны осознать, что и их интересам отвечает то, чтобы ислам оставался здоровым и сильным” [Armstrong 2002: 186]. На Западе так считают далеко не все, но размышляют об этой проблеме многие, в том числе авторитетные американские аналитики. Дебаты стали особенно оживленными с началом “арабской весны”.
“МИР ВЕРЫ”: ВЗГЛЯД ИЗВНЕ
Главный акцент в обсуждениях делается на разработке и обосновании императивов внешнеполитического курса США в связи с бурными событиями, захлестнувшими регион. Между различными группами политиков и экспертов обнаруживаются довольно значительные противоречия[22]. Генри Киссинджер отмечал, что существует ряд вопросов, на которые Америка должна дать ответ: “Есть ли у нас предпочтения относительно того, какие группировки придут к власти? Или мы нейтральны, коль скоро механизмы основаны на выборах? Если это так, что нужно сделать, чтобы не поощрять новый абсолютизм, который станет легитимным в результате управляемых плебисцитов? Какой исход событий отвечает коренным стратегическим интересам Америки? Возможно ли сочетать стратегический уход из ключевых стран, таких как Ирак и Афганистан, и уменьшение военных расходов с доктринами всеобщей гуманитарной интервенции?”[23]. Примечательно размышление патриарха американской политики и аналитики: даже если исходить из того, что США хотели бы “направить ход истории в русло гуманизма и демократии”, они не могут этого сделать, так как “историей нельзя управлять, она вершится по собственным законам”[24].
В изложении точки зрения одного из неоконсерваторов Эллиота Абрамса подчеркивается мысль, что “несмотря на культурные и исторические различия с Западом, граждане арабского мира ценят демократию и жаждут ее так же, как и в других странах”[25]. Это же относится и к исламистам, участие которых в правительствах сделает их более умеренными, а исключение вызовет лишь отторжение и мятеж. Отсюда – “повестка свободы” для арабского мира как главный императив американской политики. С этих позиций подвергалась критике Кондолиза Райс, поскольку она продвигала израильско-палестинский мир “за счет повестки свободы”[26]. Наоборот, израильско-палестинский мир должен быть подчинен “повестке свободы”, тогда как “независимое и суверенное палестинское государство нереалистично и нежизнеспособно”, поэтому его надо привязать к Иордании[27].
Питер Краузе уверен, что ДАИШ угрожает некоторым интересам США на Ближнем Востоке, хотя для самых главных из них критической опасности нет. Главные интересы состоят в недопущении появления здесь регионального гегемона и противодействии ядерному распространению [Krause 2018: 227]. В этом плане шансы боевиков на успешный захват ядерного боезаряда и его приведение в действие оцениваются как низкие, а на его самостоятельное создание – как совсем ничтожные. Для свободного транзита нефти ДАИШ – незначительная угроза, для безопасности американских союзников в регионе – от небольшой до средней. Серьезную угрозу, по Краузе, ДАИШ представляет для таких интересов США, как обеспечение мира и стабильности в регионе и предотвращение террористических атак. Наилучший способ их парировать – уничтожить саму организацию [ibid.: 227-229].
С начала текущего столетия у аналитиков повышенное внимание привлечено к вопросу о том, будет ли “мир веры” занимать более весомое место в глобальном социуме. Приведем в качестве примера доклад Национального совета США по разведке “Карта будущего: Проект 2020” (в 2005 г. он был опубликован на русском языке). С тех пор появилось еще два аналогичных исследования, но с позиций сегодняшнего дня любопытен именно ретроспективный взгляд: каким виделось будущее почти полтора десятилетия назад большой группе крупных экспертов из разных стран, объединенных под эгидой американского разведывательного сообщества.
Размышляя о том, что может произойти в недалеком будущем, авторы доклада писали: “В ближайшие 15 лет религиозное самосознание будет становиться все более важным фактором самоидентификации людей”[28]. Однако Западная Европа, на их взгляд, должна была остаться в стороне от этой возрастающей религиозности. А вот на Ближнем Востоке, как ожидалось, картина будет складываться прямо противоположным образом. “Распространение радикального ислама окажет существенное глобальное влияние… сплачивая разнородные этнические и национальные группы и, возможно, даже создавая институты, которые выйдут за пределы национальных границ”[29]. Конечно, уже тогда в мире активно действовала “Аль-Каида”, и подобное утверждение могло показаться лишь констатацией очевидного. Однако за ним следовал тезис об эвентуальном сценарии “нового халифата”, который будет способен “продвигать мощную контридеологию, имеющую широкое воздействие”[30]. И с этим прогнозом, который тогда мог показаться надуманным и навеянным историческими реминисценциями – авторы, что называется, попали в точку.
Примерно через десять лет ДАИШ оказывается не просто экстремистским проектом, порожденным фантазиями радикально настроенных исламистов, но драматической реальностью в огромном территориальном ареале, которая выглядит чуть ли не буквальной материализацией упомянутого предсказания. Некоторые аналитики, настроенные на конспирологическую волну, увидели в этом свидетельство причастности американских кругов к созданию ДАИШ.
На статус осуществившегося предсказания могла бы претендовать и книга “Волна: Человек, Бог и избирательная урна на Ближнем Востоке”, автором которой является сотрудник американского Фонда защиты демократии Роэль Марк Герект [Gerecht 2011]. В книге, опубликованной в начале 2011 г. (переданной в издательство в октябре 2010 г., т.е. незадолго, но все же до начала “арабской весны”), он уверенно рассуждал о предстоящей победе исламистов в Египте. Большая часть западного экспертного сообщества тогда излучала оптимизм по поводу политической ориентации “братьев-мусульман”, которую считали умеренной. Корни умеренности видели еще в программе, опубликованной в августе 2007 г. египетской газетой “Мисри аль-Яум”, где говорилось и об ответственных правителях, занимающих посты по воле народа, и об укреплении демократии, и о разнообразных независимых институтах гражданского общества. Отсюда – надежда, граничащая с уверенностью: “братья-мусульмане” твердо решили, что “демократия является единственно легитимной политической системой для Египта и всего остального исламского мира”. Но в упомянутой книге автор пошел дальше – предсказав, что именно в Египте исламисты “хорошо покажут себя при любом свободном голосовании”, и назвав решающим 2011 г. В результате их победы, рассуждал Герект, впервые со времен “праведных халифов” якобы возникнет возможность установления “органических, взаимодоверительных отношений” между лидерами и обществом [ibid.: 125].
Имело ли здесь место интуитивно верное заключение или за ним стояло более конкретное знание о планах радикалов? Отдельные наблюдатели обращают внимание на некоторые неясности, связанные с американским фильтрационным лагерем Кэмп-Букка в Ираке, получившим известность как “инкубатор ИГИЛ” (существовал в 2003-2009 гг.). Один из наиболее глубоких европейских исследователей исламистского экстремизма Мохаммад-Махмуд Ульд Мохаммеду пишет о человеке по имени Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, освобожденном в сентябре 2009 г. после трех лет заточения, который якобы воскликнул, покидая узилище: “До встречи в Нью-Йорке, ребята!”. По одной из версий, это был не кто иной как ставший в дальнейшем основателем ДАИШ Абу Бакр аль-Багдади. По другой – речь идет об эпизоде с заключенным, который вышел из лагеря значительно раньше – в декабре 2004 г. [Mohammedou 2017: 86-87]. Но общепризнанный факт пребывания в американской тюрьме и затем освобождения будущего лидера самой страшной в истории человечества террористической структуры может порождать вполне очевидные конспирологические предположения об обстоятельствах возникновения последней.
Есть основания задуматься о предыстории ДАИШ в ином плане. Ведь этот феномен появился после американского вторжения в Ирак, роспуска иракской армии и сил безопасности, запрета правившей в стране партии “Баас” и массовой чистки госаппарата от баасистов. Было много тех, кто счел себя жертвами дискриминации после 2003 г., причем речь шла главным образом о суннитах, что не могло не усугублять и без того непростые внутриконфессиональные взаимоотношения (сунниты–шииты). Радикализация значительной части населения страны стала логичным следствием возникшего положения вещей и важным фактором появления в ближневосточной “зоне веры” ее человеконенавистнического субстрата.
Конспирологические же мотивы в аналитике по данному вопросу занимают маргинальное место. Превалирует мнение, что все правительства и разведки мира “проспали” появление этой террористической организации и не ожидали, что она сможет овладеть в 2014 г. значительной частью Ирака, а затем Сирии. По словам израильского эксперта, бывшего полковника военной разведки Эфраима Кама, “всего за год до этого ни одно правительство или разведывательное сообщество какой-либо нации, больше всего подвергшейся воздействию ДАИШ, не предсказывали его силу, масштаб и скорость возникновения” [Kam 2015: 21]. Показательный пример: Национальная разведывательная стратегия США в версии, опубликованной в 2014 г., упоминает “Аль-Каиду”, но ни слова не говорит о ДАИШ[31].
* * *
Любые придуманные учеными трансграничные деления мира несут долю искусственности и не всегда стыкуются с действительностью. Некоторые воображаемые и эмоционально заряженные конструкты, будь то фантазии джихадистов или выглядящие изящными построения некоторых политологов, каждый по-своему бросает вызовы сложившейся в мире, в том числе и на Ближнем Востоке, системе национальной государственности. Может быть, прав Роберт Каплан, который, полемизируя с Сэмюэлем Хантингтоном, утверждал: “Имеет место не так называемое столкновение цивилизаций, а столкновение искусственно реконструированных цивилизаций” [Kaplan 2018: 113].
Еще больше вопросов вызывает противопоставление одних обществ другим на основе различия в уровнях религиозности. Но это не означает, что данный фактор не важен. Он может оказывать серьезное влияние на эволюцию национальных государств и часто используется в политических целях.
Сторонники разработанной Львом Гумилевым теории этногенеза, скорее всего, сочтут всплеск мусульманского радикализма в текущем десятилетии результатом грандиозного высвобождения энергии под воздействием некоего “пассионарного толчка”. На наш взгляд, происшедшее надо рассматривать в контексте более фундаментальных долговременных процессов в регионе и в мире. И обязательно с учетом как мощных, хотя и противоречивых глобализационных трендов, так и очевидной неисчерпанности религиозных факторов в эволюции социума.
Агаджанян А. 2005. Буддизм в современном мире: мягкая альтернатива глобализму. — Религии и глобализация на просторах Евразии. Под ред. А. Малашенко, Г. Филатова. М.: Неостром. С. 222-255.
Армстронг К. 2016. Поля крови: религия и история насилия. М.: Альпина нонфикшн. 538 с.
Бектимирова Н., Липилина М., Симония А. 2016. Избирательные системы и электоральные процессы в странах Индокитая на современном этапе. М.: Тезаурус. 281 с.
Кузнецов В. 2017. Постсекулярный век модерна. Ближневосточный извод. – Государство, религия, церковь в России и зарубежом. Т. 35. № 3. С. 85-111.
Наумкин В. 2008. Ислам и мусульмане: культура и политика. М.: Нижний Новгород: Медина. 767 с.
Наумкин В. 2011. Ближний Восток в мировой политике и культуре. М.: ИВ РАН. 376 с.
Al-Yaqoubi Sh. M. 2016. Refuting ISIS. 2nd edition. Herndon, Virginia, USA: Sacred Knowledge. 152 p.
Arakeri A. 1998. Tibetans in India — The Uprooted People and their Cultural Transplantation. New Delhi: Reliance Publishing House. 487 p.
Armstrong К. 2002. Islam — a Short History. A Modern Library Chronicles Book. New York: The Modern Library. 272 р.
Gerecht R. 2011. The Wave: Man, God, and the Ballot Box in the Middle East. Stanford: Hoover Institution Press. 181 p.
Kam E. 2015. The Islamic State Surprise: The Intelligence Perspective. – Strategic Assessment. No. 18. P. 21-31.
Kaplan R. 2018. The Return of Marco Polo’s World: War, Strategy and American Interests in the Twenty-First Century. New York: Random House. 304 p.
Krause P. 2018. A State, an Insurgency, and a Revolution: Understanding and Defeating the Three Faces of ISIS. – The Future of ISIS: Regional and International Implications. Ed. by Feisal al-Istrabadi and Sumit Ganguly. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. P. 223-246.
Lane E.W. 1984. Arabic-English lexicon. Vol. 1. Cambridge: The Islamic Texts Society.1487 p.
Leonard М. 2007. Divided World: The Struggle for Primacy in 2020. L.: Center for European Reform. 54 p.
Mohammedou M.M. 2017. A Theory of ISIS. Political Violence and the Transformation of the Global Order. London: Pluto Press. 272 p.
Roy O. 1994. The Failure of Political Islam. L., New York: I.B. Tauris Publishers. 256 p.
Shukla A., Dikshit V 2009. Tibetan Buddhism – Past and Present. – Himalayan and Central Asian Studies (Journal of Himalayan Research and Cultural Foundation). Vol. 13. No. 1. P. 43-53.
[1] Мы пользуемся этим достаточно условным понятием для вычленения из глобальной системы регионального пространственного компонента в ареале от Северной Африки до Турции и Ирана, а также расположенных к югу от них арабских стран. Соответствующим англоязычным эквивалентом можно считать аббревиатуру MENA (Middle East and North Africa). Нередко сюда включают также Афганистан и Пакистан. При фокусировании аналитического внимания на геополитической стороне дела к региону иногда относят также три государства Южного Кавказа и страны Центральной Азии. При еще более расширительном контексте, когда на первое место выходит конфессиональная составляющая социума (прежде всего понятие “мусульманского мира”), можно счесть правомерным распространение регионального подхода вплоть до Индонезии и Филиппин (с риском придать ему безразмерный характер).
[2] Деятельность организации запрещена на территории РФ (№19 в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). В настоящей статье используется арабская аббревиатура ДАИШ. Другие используемые в русскоязычной литературе названия этого образования, деятельность которого запрещена на территории РФ, — “исламское государство” (ИГ), “исламское государство Ирака и Леванта” (ИГИЛ), иногда “исламское государство Ирака и Сирии”.
[3] Khilafah Declared. – Dabiq. 2014. No. 1.
[4] Islam Is the Religion of Sword, Not Pacifism. – Dabiq. 2015. No. 7. P. 20.
[5] Призыв к диалогу с иноверцами, с точки зрения ультрарадикальных исламистов, есть лишь “план разоружения ислама или, вернее, отказа от ясной, основанной на Коране и Сунне обязанности вести джихад против язычников, пока всем миром не станет править шариат”: In the Words of the Enemy. – Dabiq. 2016. No. 16. Р. 76.
[6] Lynch D.J., Rauhala E. With Tarifs, Trump starts Unraveling a Quarter-Century of U.S.-China Economic Ties. — The Washington Post. 15.06.2018. URL: https://www.washingtonpost.com/business/economy/trump-imposes-import-taxes-on-chinese-goods-and-warns-of-additional-tarifs/2018/06/15 (accessed 12.10.2018).
[7] Лукашенко вновь раскритиковал ЕАЭС. – EurAsia Daily. 14.05.2018. Доступ: https://eadaily.com/ru/ news/2018/05/14/lukashenko-vnov-raskritikoval-eaes (проверено 12.10.2018).
[8] Цит. по: Zakheim D. 2018. Clash of the Strategists. – National Interest. URL: https://nationalinterest.org/ feature/clash-the-strategists-25384 (accessed 12.10.2018).
[9] Там же.
[10] Скрипунов А. “Индекс веры”: сколько на самом деле в России православных. – РИА Новости. 23.08.2017. Доступ: https://ria.ru/religion/20170823/1500891796.html (проверено 28.08.2018).
[11] Хафиз – мусульманин, выучивший Коран наизусть и способный правильно воспроизводить его. Хафизов готовят с раннего детства.
[12] Боброва О. Коран и дети. – Новая газета. 10.03.2018. Доступ: https://www.novayagazeta.ru/ articles/2018/03/10/75752-koran-i-deti (проверено 12.10.2018).
[13] In the Words of the Enemy. – Dabiq. 2016. No. 16. P. 76.
[14] An Address from the Khalifah on the Last Plot of the Apostates. –Dabiq. 2015. No. 9. P. 56.
[15] Деятельность организации запрещена на территории РФ (№477 в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).
[16] Аббревиатура обязательной при упоминании пророка Мухаммада формулы салля—ллаху алейхи ва—саллям – “да пребудут на нем благословение и благодать Аллаха”.
[17] Постановление № 99 (2/11), ноябрь 1998 г. “О секуляризме”. – Постановления и рекомендации Совета Исламской академии правоведения (фикха). Пер. с араб. М.Ф. Муртазина. М.: Ладомир. 2003. 232 с.
[18] Lisān al-Arab li-l-Imām al-‘allāma Ibn Manźūr. 630-711 H. Bayrut: Dar Ihya’ at-Turath. 1972.
[19] 6-я сура Корана: “Аль-Анам”. – Коран. Доступ: https://quran-online.ru/6:38 (проверено 12.10.2018).
[20] Al-Mu’jam al-mufahras li-alfaz al-hadith an-nabawi ‘an al-kutub as-sittawa ‘an Musnad ad-Darimiwa-Muwatta’ Malik wa-Musnad Ahmad b. Hanbal. Al—juz’ al-awwal. Leiden: Brill. P. 92.
[21] Деятельность организации запрещена на территории РФ (№5 в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).
[22] О взглядах неоконсерваторов на проблемы арабского и исламского мира см.: [Наумкин 2008; Наумкин 2011].
[23] Киссинджер Г. Пределы универсализма. – Россия в глобальной политике. 2012. № 4. Доступ: https:// www.globalafairs.ru/number/Predely-universalizma-15641 (проверено 09.10.2018).
[24] Там же.
[25] Цит. по Zakheim D. 2018. Clash of the Strategists – National Interest. URL: https://nationalinterest.org/ feature/clash-the-strategists-25384 (accessed 09.10.2018).
[26] Ibidem.
[27] Ibidem.
[28] Карта буду“его. Доклад Национального совета США по разведке «Проект 2020″. 2005. Русское издание. М.: Фонд Единство во имя России”. С. 83.
[29] Там же.
[30] Там же. С. 87.
[31] The National Intelligence Strategy of the United States of America 2014. — Office of the Director of National Intelligence. 2014. URL: https://www.dni.gov/files/documents/2014_NIS_Publication.pdf (accessed 09.10.2018).