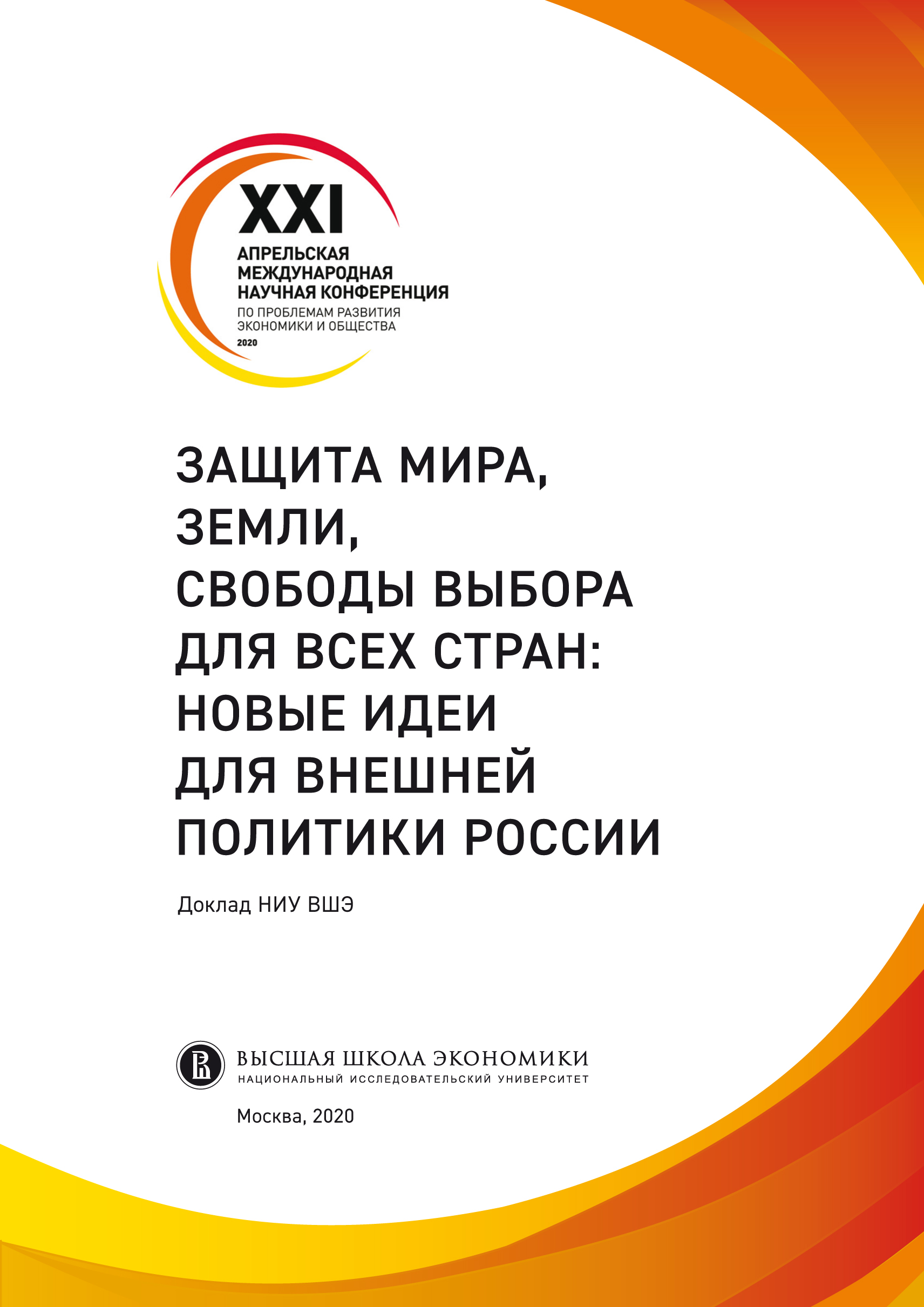ИСТОРИЯ ДЛЯ ПОЛИТИКИ ИЛИ НАОБОРОТ?
Фёдор Лукьянов, Алексей Миллер
Российский Совет по международным делам
О культурно-исторических взаимоотношениях народов, с которыми связано становление нашего государства
Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» вывела на высший политический уровень давнюю дискуссию о культурно-исторических взаимоотношениях народов, с которыми связано становление нашего государства. Об обстоятельствах этих дискуссий и возможных задачах публикации Фёдор Лукьянов побеседовал с Алексеем Миллером, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге, одним из наиболее известных исследователей истории национализма в целом и украинского вопроса в частности.
ЛУКЬЯНОВ: Начнём с азов. Откуда взялась сама идея триединого русского народа? И какую трансформацию она переживала?
МИЛЛЕР: Изначально это была идея вовсе не триединого народа. Потому что в тот момент, когда закладывались её основы, а это была вторая половина XVII века, про белорусов никто особо не думал. В Печерской лавре, в Киеве, тогда составляли «Синопсис», книгу, которая затем, в течение полутора веков, вплоть до начала XIX века, оставалась главным историческим сочинением для русской читающей публики. И её составители написали о едином словено-российском народе. Этот тезис, на самом деле, отражал прежде всего собственные интересы сочинителей, потому что и представителям церковной иерархии, и казацкой старшине надо было вписываться в соответствующие структуры Московского царства и потом – Петровской империи. И вписываться в качестве части одного народа было удобнее.
Церковники вписались быстрее, уже где-то в середине XVIII века они занимали примерно половину высшего уровня клира Московской патриархии. У казаков это заняло больше времени. Но как раз к концу XVIII – началу XIX века их тоже приняли в дворянство в значительном количестве, что было очень непросто.
Таково начало длинного обсуждения того, единый мы народ или не единый народ и что это значит. Этому обсуждению почти три с половиной века, в нём участвуют разные силы с разными интересами, и смысл того, что они вкладывают в эти слова, всё время меняется.
ЛУКЬЯНОВ: А на том, первоначальном, этапе Москве это тоже было нужно? Или у неё была вообще другая повестка?
МИЛЛЕР: Москве это было в некотором смысле необязательно, но там тоже имелись свои интересанты. Если ты сидишь в Москве как церковный иерарх, а тебе навязывают выходцев из Киево-Могилянской академии (в качестве более образованных), ты будешь сопротивляться до определённого момента. А если ты русский дворянин, то тебе лишних не надо. Тем более что, с точки зрения русского дворянина, который в книгах записан, казацкая старшина – не ровня, потому что документов почти ни у кого из них нет и в Речи Посполитой статуса шляхты им не дали.
ЛУКЬЯНОВ: В какой момент это становится имперским инструментом?
МИЛЛЕР: Идею единого народа начинают активно обсуждать в тот момент, когда империя приходит к выводу, что нужно строить нацию в имперском ядре, в первые десятилетия XIX века.
Так или иначе к концепции единства приходили разные люди. Это в том числе и декабристы, которые твердили о том, что вот – мы победим, уничтожим самодержавие и устраним вообще все различия русского народа: малорусов, белорусов, великорусов – всё отменить. Только русские.
И министр народного просвещения Сергей Семёнович Уваров, который говорил, что тронь самодержавие и всё обрушится, тоже был озабочен нациестроительством. Уваров поддерживал тот нарратив русской истории, который ревизует Николая Михайловича Карамзина. Ведь Карамзин же писал «Историю государства Российского», и для него темы этничности были второстепенны. А для историка Николая Герасимовича Устрялова, который выигрывает при Уварове приз за лучшую схему русской истории для учебников, это центральный момент. Он пишет о том, что русская история – это больше, чем история государства, что значительная часть русского народа жила под гнётом Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, и различия, которые сегодня мы наблюдаем между разными ветвями русского народа, вызваны именно этим угнетением.
ЛУКЬЯНОВ: То есть фактически это и есть исток того, о чём пишет Владимир Путин?
МИЛЛЕР: В общем, да. Потому что для Карамзина такой стиль мышления ещё совершенно нетипичен. Надо сказать, что концепция единства характерна для любых националистических построений того времени. Когда немцы смотрят на эльзасцев и говорят, что, в принципе, это немцы, а если они чем-то и отличаются, то лишь из-за многовекового французского ига, они делают абсолютно то же самое – объединяют немецкие племена в нацию. Первая фраза Веймарской конституции, кстати, говорит о «германском народе, едином в своих племенах».
А вот, собственно, схема русской истории: есть те русские, которые жили в Великом княжестве Литовском и потом, после польско-литовской унии, попали под власть поляков, и те русские, которые были в Москве, и те, что жили в Новгороде, и у всех свои политические традиции. Историк Николай Иванович Костомаров про это пишет: есть Южная Русь и есть Северная Русь, но основной мотив такой, что, да, эти Руси чем-то различаются, однако их различия менее значимы, чем общность.
Вопрос, который нужно было тогда решить имперским властям – по какому пути идти. Французский путь – все различия убираем, уничтожаем под корень – в общем, экстремистский: он был использован только французами и только французам удался отчасти. Есть и другой путь. Это немцы с их разными племенами и местными наречиями, которые существуют до сих пор под крышей общего Hochdeutsch. Идея, опираясь на которую, скажем, англичане строили the British people, британский народ. Логика та же: вы, шотландцы, всё-таки иные, различия существуют, и они важны, но менее важны, чем наша общность. И как шотландцев англичане пригласили рулить Британской империей вместе, так и великороссы позвали малороссов – казацкую старшину и церковных иерархов – в Российскую империю.
ЛУКЬЯНОВ: Но шотландцы – потомки кельтов, этнически они всё-таки больше отличаются от англичан, чем малороссы от великороссов.
МИЛЛЕР: Если начать копаться в этничности, то всё усложняется. Какова этничность казаков? Чёрт ногу сломит определять. Сколько у них там похищенных турецких, черкесских и прочих княжон, сколько неславянской крови… Изначально казаки крестьян-гречкосеев не считали частью своей общности. Споров по этому поводу было достаточно.
В них, кстати, участвовали не только малороссы и великороссы, но и поляки. А у поляков своя схема, в которой Русь и поляки – это славяне, но только Москва к Руси не относится. Москали – туранцы, какая-то смесь угро-финнов и каких-то тюрков, которые прикидываются славянами и которые украли имя Руси. Все эти аргументы поляки сформулировали после восстания 1830 года.
ЛУКЬЯНОВ: То есть отголоски этих споров слышны в сегодняшней украинской реакции – и на Путина, и вообще?
МИЛЛЕР: Безусловно. Это всё очень давняя история. И она всё время возрождается, проигрывается заново. Но в массовом сознании любая её научная критика как-то выпадает, маргинализуется. Хотя и с украинской, и с российской стороны было сказано много разумных слов по поводу того, что это очень схематично и к критическому историческому взгляду имеет мало отношения.
Далее. В двадцатые годы уже XX века русская эмиграция в Праге очень болезненно переживала происходящее на Украине (политика коренизации и разные другие вещи).
ЛУКЬЯНОВ: Именно в связи с большевистской политикой?
МИЛЛЕР: Да, но, конечно, не только большевики были важны. Это и опыт гражданской войны, и Первой мировой, и вообще весь комплекс большого слома. Пражских эмигрантов это волновало. Они даже создали издательство с неслучайным названием «Единство». В Праге в 1920-е гг. публиковались брошюры, где историческая часть нынешней статьи Путина более или менее изысканно излагалась эмигрировавшими профессорами истории и филологии из Московского и Петербургского университетов. Среди них были люди, которые стали продвигать интересную идею. Известный лингвист Николай Сергеевич Трубецкой, например, писал о том, что на самом деле украинцы создали канон русской культуры в XVIII веке, это их вклад. К чему его теперь отбрасывать? Он обращался к профессору Дмитрию Ивановичу Дорошенко, но никакого взаимопонимания не нашёл.
А Пётр Михайлович Бицилли, который жил на отшибе в Софии и был, конечно, интеллектуал совершенно другого масштаба, способный выскочить из этой наезженной колеи, написал для «Единства» в 1930 г. брошюру «Проблема русско-украинских отношений в свете истории». Она настолько поразила издателей, что они прямо во введении говорят: это всё кажется очень странным, но мы публикуем. А рассуждения у Бицилли такие: исторические аргументы, что и имени украинцев не было раньше в современном национальном значении, и Украины как государственного образования не было, – малозначимы. Если есть желание, политическая воля и ресурсы для создания украинской нации и Украины как квазигосударства (Украинская Советская Социалистическая Республика), это вполне возможно сделать. Дальше Бицилли рассуждает о том, как обеднеет новое образование, если оно будет отвергать русскую культуру, но это уже детали. Надо сказать, что через год он эту брошюру в качестве статьи издал по-английски в очень важном журнале The Journal of Modern History. И у меня есть подозрение, что те, кто потом развивали nationalism studies (исследования национализма), типа Эрнеста Геллнера, Бенедикта Андерсона, эту статью могли и должны были читать. Потому что Бицилли обогнал лет на пятьдесят все рассуждения западной науки по этому поводу.
ЛУКЬЯНОВ: Получается, до этой брошюры идеи о том, что нацию можно придумать и создать имеющимися средствами, не было?
МИЛЛЕР: В XIX веке считалось, что нация легитимируется через историю. Интеллектуал, который принимал участие в строительстве нации, имел обязательство с упорством отстаивать, что украинский народ был всегда. И что он всегда был иной и отличался от российского народа. А Бицилли поставил вопрос иначе: зачем спорить об этом? Это же неважно вообще. Важно лишь то, как концептуализируются эти различия.
Если я правильно помню, в 1846 г. в журнале Сергея Семёновича Уварова – «Журнал Министерства народного просвещения» – публикуется статья, где говорится, что малороссы и великороссы, конечно, отличаются. Но главный вопрос состоит в том, какое значение мы придаём тому, что у одних – щи, а у других – борщ. Тогда люди ещё умели писать с сарказмом. А вот в настоящее время, буквально где-то месяца три-четыре назад, разгорелся скандал чуть ли не на дипломатическом уровне по поводу того, чей же борщ.
В общем, в XIX веке дискуссия о том, один народ или не один, – это дискуссия о том, какой из проектов выиграет. Потому что оба проекта были. И были люди, которые работали и в ту, и в другую сторону.
ЛУКЬЯНОВ: Имеется в виду проект внутри империи?
МИЛЛЕР: Да. Но значительная часть людей, которые потом станут украинцами, находились не внутри империи. Когда империя вступила в Первую мировую войну, она захотела проливы. А второе – Восточную Галицию, которую она называла Червонной Русью. Многие полагали, что если взять Галицию, где правят австрийцы и поляки, очистить её от язвы украинства, то и у нас язва украинства исчезнет. Были люди поумнее, типа Петра Николаевича Дурново, который в 1914 г. писал, что брать Галицию ни в коем случае нельзя, потому что там пророссийски настроенных мы получим несколько сотен тысяч на миллион упёртых украинцев. А в 1939 г. товарищ Сталин не послушался Дурново. И пришлось, если я правильно помню, до 1954 г. воевать с украинским подпольем.
Условно говоря, во второй половине XIX и в начале XX веков можно было обсуждать, состоится украинский проект или нет… Кстати, можно было ещё обсуждать, стали бы единой нацией русины и украинцы Галиции и Надднепрянской Украины, между которыми были конфессиональные различия – униаты и православные. Например, сербы и хорваты превратились в две разные и неприязненно настроенные друг к другу нации. Притом, что язык был один, сербохорватский, а потом оказалось – он не один.
В Первую мировой войну случились важные вещи – напрямую и очень интенсивно в события включились Австрия и Германия, каждая из которых обладала своей национальной политикой в украинском вопросе. Это повлияло и на российскую политику, и во время войны Российская империя признала украинцев как украинцев.
ЛУКЬЯНОВ: А почему?
МИЛЛЕР: Потому что это уже было сделано немцами и австрийцами, и упираться, что украинцев не существует, стало трудно. Проще признать, что украинцы существуют, и начинать торг по поводу того, что это значит. Весь XIX век Австрия, Пруссия и Россия придерживались в своей политике определённых конвенциональных ограничений – у них общий скелет в шкафу – раздел Речи Посполитой. Поэтому они, при всех возникающих конфликтах и напряжениях, очень сдержанно разыгрывали друг против друга карту этнического сепаратизма. А в Первую мировую войну эти ограничения оказались решительно отброшены.
ЛУКЬЯНОВ: В чём заключалось отличие немецкого и австрийского подходов?
МИЛЛЕР: Австрийцы приготовили своего Габсбурга, который хотел стать украинским королём. Был такой принц Вильгельм фон Габсбург, который на Украине был известен как Василь Вышиванный. У него были свои казачьи отряды, он знал украинский язык и претендовал на роль будущего украинского короля. То есть такая мягкая имперская политика: мы вам много чего дадим, а заодно дадим и нашего короля.
ЛУКЬЯНОВ: Предполагалось, что Украина станет отдельным государством?
МИЛЛЕР: Отдельной провинцией, например. И немцы, и австрийцы создали отдельные «украинские» лагеря для военнопленных. Там с ними работали пропагандисты, прежде всего из Союза освобождения Украины. В этих лагерях находилось около 400 тысяч человек. У немцев всё было пожёстче. Они не готовили никакого Гогенцоллерна на украинский престол, но где-то с 1915 г. их игра стала понятной. Они тогда не получили украинских земель, но получили другие земли – сегодня они белорусские. Немцы обнаружили белорусов, были очень удивлены, что такие вообще есть, но сразу начали с ними работать. Схема та же, что и в отношении украинцев: это другие люди, они не имеют ничего общего с русскими.
Собственно, позиция, что украинцы – не русские, что они дружественны немцам, сохранялась даже в 1941 году. Примерно до 1942 г. у вермахта были инструкции, что предпочтительно всё-таки в заложники, если идёт борьба с партизанами, не брать украинцев, чтобы их не обижать, в отличие от русских, например, или белорусов.
Но это один опыт. Совсем другое – гражданская война. В гражданскую войну надо выбрать сторону, за которую воюете и какую поддерживаете, и вам нужно выбирать, например, между гетманом Скоропадским и большевиками. Выбор совершенно неочевиден, например, для русского офицера. Это описано у Михаила Булгакова в «Белой гвардии» – всё-таки Скоропадский для него намного более «нормален», чем большевики. И Скоропадский, кстати, тоже на этом играет и не хочет отталкивать русских. Он говорит, что Украина может стать спасительной гаванью для русской культуры, если её удастся отстоять у большевиков.
ЛУКЬЯНОВ: Ну да, «остров Крым».
МИЛЛЕР: Не совсем, потому что рядом должна развиваться и украинская культура. Собственно, противостояние в ходе гражданской войны – «Ты за Украину или за Россию?», – если взять, например, крестьян – это ещё и вопрос, хочешь ты к большевикам или нет. Этот выбор просуществовал недолго, но потом вернулся уже в новом виде, когда гражданская война закончилась и началось проведение границы между УССР и РСФСР. Какие-то земли были переданы России. Например, Таганрог, который (по логике «уходите, с чем пришли») надо было бы отдать Украине. А Донбасс можно было бы, напротив, взять.
Что интересно во всей этой истории? Посмотрим на территории, о которых спорят, – Кубань, Таганрог, юг Воронежской губернии, Донбасс. Эти территории не входили в состав Украины, хотя там было очень много малороссов, хохлов (это самоназвания), которых потом стали обязательно называть украинцами, потому что это советская власть сформулировала тезис, что термин «малоросс» оскорбителен (на самом деле он таковым не был). Итак, если посмотрим на идентичность малороссов Кубани, Воронежской области, Таганрога, то увидим – они все стали русскими. Некоторые ещё до недавнего времени называли себя русскими хохлами. На самом деле, ответ на вопрос, кем станет тот или иной конкретный человек, ещё в первой половине XX века очень сильно зависел от того, какие политические решения будут приняты не им. И серая зона – можешь стать русским, можешь стать украинцем – сохранялась долго и в советское время. У Леонида Ильича Брежнева, когда он жил в Днепропетровске, в паспорте было написано – «украинец». Переехал в Москву – стал «русский». И кто он на самом деле? Есть люди, для которых поменять украинца на русского в паспорте – это не так уж и важно… Кстати, много тех, кто менял наоборот. Например, по последней советской переписи 1989 г., на Украине было 11,3 млн русских. А по единственной украинской переписи, которая прошла в 2001 г., если я правильно помню, русских осталось 8,3 миллионов. Три миллиона куда-то пропали. Большинство из них не переехали в Россию – они поменяли идентификацию в паспорте. При этом для кого-то – и таких людей довольно много – очень важно, что он украинец и понимает украинство как «Украина – не Россия». И настаивать на том, что это один народ, – анахронизм.
Но значимо другое. Если мы говорим о том, как развивается этот дискурс, бесконечный спор, то стоит обратить внимание на то, что советская модель – это три братских народа. А говоря об одном народе, Путин возвращается в дореволюционный, добольшевистский дискурс. И он возвращается в некотором смысле дорогой Александра Солженицына, который реанимировал идею триединства в эссе «Как нам обустроить Россию?». Но это триединство уже надо создавать заново – с учётом того, что произошло за годы советской власти.
ЛУКЬЯНОВ: Если брать современное украинское национальное строительство, чему оно наследует на самом деле? Во что уходят его корни?
МИЛЛЕР: Украинское национальное строительство на самом деле вдохновлено идеей сделать украинскую идентичность необратимой. Леонид Кучма, например, недавно говорил о том, что главное достижение всего произошедшего заключается в том, что сегодня большинство украинцев не захотели бы заново объединяться с Россией. Это было, разумеется, ведущей нитью идентичности украинской диаспоры, которая является значимым актором.
Один очень серьёзный историк и интеллектуал Омельян Иосифович Прицак, академик, признанный в мире, говорил в начале 1990-х гг., что Украина «неправильно» получила независимость: она на неё упала, Украина за неё не сражалась. «Правильно» получать независимость через войну. В этом смысле понятно, почему Киев настаивает, что с 2014 г. на востоке идет война с Россией… За попытку порассуждать о том, что это гражданская война, могут посадить. С точки зрения таких строителей украинской нации, текущий конфликт – божий дар. Прицак ещё говорил о том, что хорошо бы произвести обмен населением (вполне в сталинском духе), как это было между советской Украиной и Польшей: в России живёт 7 млн украинцев, отдайте их обратно (правда, он забыл поинтересоваться, хотят ли они переехать), а русских заберите себе.
Так что является необходимым стандартом украинской идентичности? Входит ли в этот пакет осознание русского как врага? Этот вопрос раскалывал и до сих пор раскалывает украинскую нацию. Западные украинцы всегда знали, что русские – враги (а также поляки и евреи). А восточно-украинская идентичность русского в качестве врага не рассматривала. Сейчас на Украине всё снова переформатируется, идут сложные процессы – мы мало об этом знаем на самом деле. И количество людей, для которых характерно западно-украинское понимание украинской идентичности, растёт. Центр Украины в политическом отношении всё больше клонится к западной идентичности. По всем социологическим опросам получается, что запад Украины и центр теперь схожи, также есть восток и юг, у которых всё по-другому. Это новая разделительная линия. Раньше она пролегала между центром и западом, а сейчас сдвинулась. Солженицын в 1990 г. говорил, что Украина должна остаться с Россией, но без западной части. Теперь, наверное, сказал бы, что и без центральной.
ЛУКЬЯНОВ: Если принять концепцию триединого народа как данность и пытаться строить на этом дальнейшую политику, какая модель отношений с Украиной и Белоруссией могла бы из этого вытекать?
МИЛЛЕР: Вообще-то, я статью Путина читал иначе. Первая историческая часть не понравилась мне тем, что она «в колее». Ведь таких – большой длительности – интеллектуальных тем очень много. Есть, например, «Россия и Европа», причём и с русской стороны, и с европейской. Что меня огорчает, что и в этой теме мы сваливаемся в какие-то старые привычные решения. Когда происходит кризис понимания, для политических деятелей, и европейских, и наших, очень характерно войти в привычное, накатанное русло.
Мне всё-таки кажется, что историческая часть статьи не так важна, главное – в конце. Тезис о том, что Украина на данный момент не имеет суверенитета, находится под внешним управлением, с моей точки зрения, есть проведение «красной линии»: не надо строить здесь бастион против России, потому что тогда, по логике вещей и по логике нашей позиции, мы этот бастион просто развалим.
Основой, поддерживающей этот тезис, является утверждение, что мы не воспринимаем Украину как врага и не воспринимаем украинцев как врагов. Поэтому готовы обсуждать, как строить отношения с Украиной, если все игроки, задействованные в данном вопросе, отдают себе отчёт в том, что это необходимо. Не надо думать, что мы уже сделали на Украине всё, что могли сделать, но при этом мы не хотим снова переходить в режим тотальной конфронтации и игры с нулевой суммой.
Для меня принципиальный вопрос в том, какое значение автор статьи придаёт исторической части. Мне бы хотелось, чтобы как можно меньшее, – и в этом случае весь этот экскурс не про историю, а про то, что мы не хотим становиться анти-Украиной, что мы не хотим рассматривать Украину как врага, а украинцев как врагов.
ЛУКЬЯНОВ: Если только они сами не начнут на этом настаивать.
МИЛЛЕР: Вот потому и неважно, что сказано в исторической части. Либо у нас есть политика, которая основывается на нашем понимании современной ситуации и для осуществления которой мы выстраиваем определённый исторический нарратив. Либо у нас есть видение истории, из которого мы выстраиваем нашу политику. Всё-таки мне бы очень хотелось надеться, что это первый вариант, а не второй.
ЛУКЬЯНОВ: Думаю, что это первый вариант.
МИЛЛЕР: Это принципиальный момент.