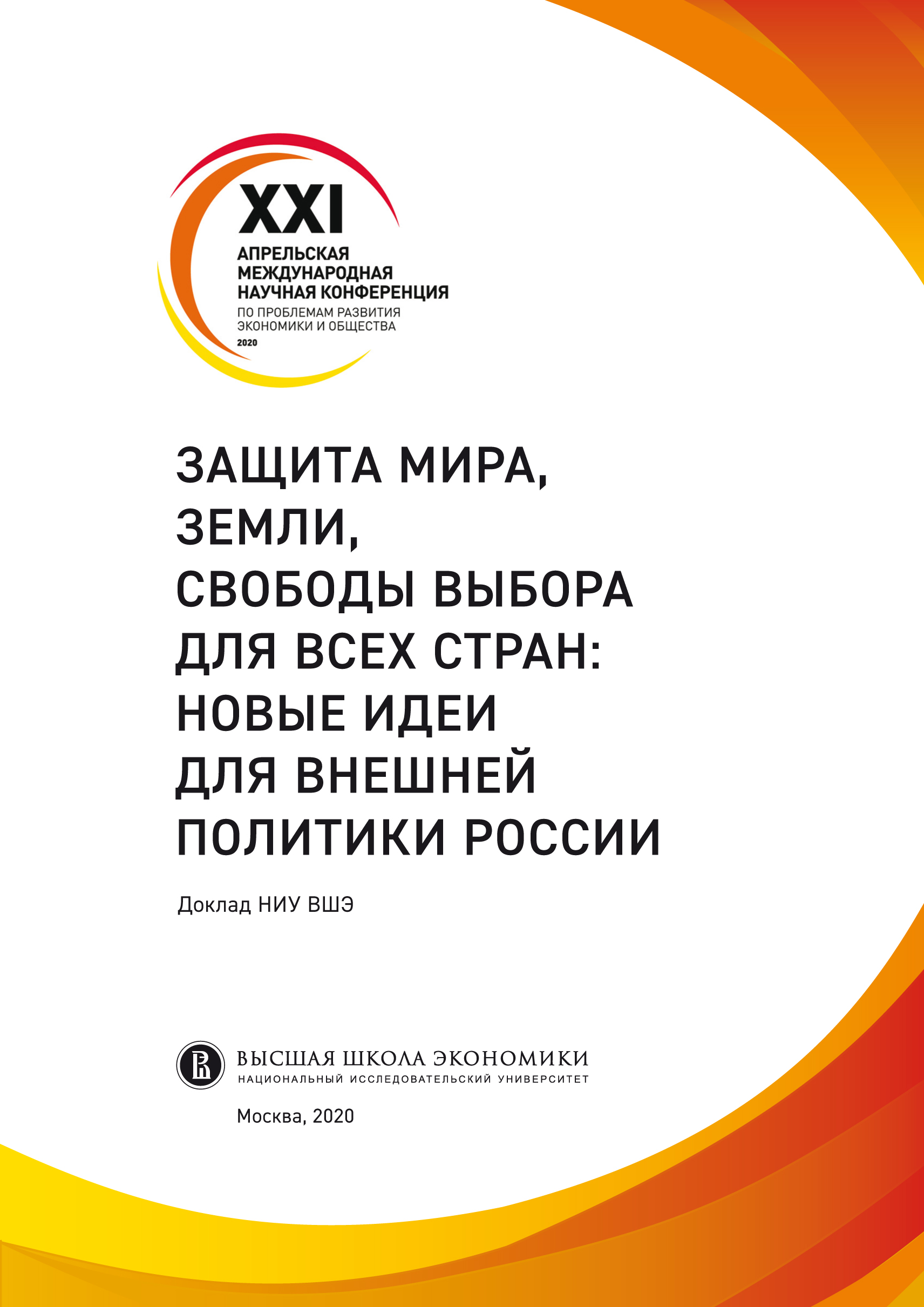ДЕКОМПОЗИЦИЯ ИСКУССТВА: ИСТОРИОСОФИЯ РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
В России внешняя политика и политика как таковая находятся в постоянном диалектическом взаимодействии
Происхождение внешней политики государства представляет собой один из самых важных, но одновременно наименее благодарных сюжетов в изучении международных отношений. Стремление избавить себя от необходимости обращаться к этому предмету, исключительно сложному в силу многообразия источников его происхождения, стало причиной появления науки о международной политике в том академическом изводе, который утвердился за полвека.
Основоположник системной теории (а именно она позволяет нам особенно не думать о том, как возникает внешняя политика) Кеннет Уолтц писал, что теория «может сказать нам, какое давление на государства оказывает структура международной системы и какие возможности она им предоставляет, но не то, как и насколько эффективно государства будут отвечать на это давление и пользоваться этими возможностями»[1]. Созданный им и последователями фундамент современной науки об отношениях между народами – естественный результат того, что в XX веке внешняя политика перестала быть персонифицированной, делом избранных представителей элиты, руководствующихся соображениями высшего государственного интереса. Решающее значение имеет не конкретный политический режим, а сама по себе необходимость общественной поддержки внешней политики и широкого в ней общественного участия (в форме массовых армий и необходимой для подъёма патриотических чувств пропаганды)[2].
Внешнеполитическое поведение государств зависит от невообразимого количества факторов. Пытаться учесть их в анализе означает колоссальный риск отправиться в путешествие, возврата из которого в реальность уже не будет. В лучшем случае исследователь окажется признанным специалистом по одному из вопросов, связанных с происхождением внешней политики, важность и даже реальность существования которого всегда может быть оспорена. В худшем – закончит дни, пополнив ряды гадателей, суждения которых скоро наскучат сколько-нибудь начитанной публике. Это, однако, не означает, что следует отказаться от попыток составить более структурированное представление, в силу каких причин внутреннего характера народы ведут себя по-разному в сравнительно схожих исторических обстоятельствах. Невозможно знать в точности, какими окажутся практические действия государства, но можно пытаться представить себе, в пределах каких представлений они будут находиться.
Тем более это важно сейчас. Последние десятилетия практической международной политики показали, что уже нельзя полагаться на абстрактные схемы, созданные в эпоху стабильных систем времён холодной войны и растерянно воспринимающие мир после её завершения[3]. Настолько растерянно, что позволительно предположение: теория международных отношений вообще изжила себя как предмет или по меньшей мере нуждается в коренном пересмотре под воздействием складывающихся политических реалий[4]. Суммируя результаты идущей дискуссии, можно сказать, что такая постановка проблемы оправданна в силу как минимум трёх обстоятельств.
Во-первых, современное государство сталкивается со столь серьёзными вызовами, что внешняя политика повсеместно подчиняется соображениям внутриполитического характера. Это касается стран Запада, России, Китая и всех остальных, и делает наиболее значимым то, чего существующие теории понять не в состоянии просто в силу имеющейся у них методологии.
Во-вторых, произошло невероятное расширение круга держав, имеющих значение в международной политике и опирающихся на разный исторический опыт.
В-третьих, исчезла возможность чётко определить критерии положения государств в международной системе, что является обязательным условием современной теории. Она в любом случае основана на выявлении соотношения сил как отправной точке, что трудно сделать с уверенностью применительно к современным условиям.
В результате мы имеем дело с совокупностью внешних политик государств, а не с международной политикой как сравнительно автономной сферой, о существовании которой можно было говорить с середины прошлого века. Внешняя политика, в свою очередь, – продукт деятельности человека и, соответственно, несёт на себе отпечаток индивидуальности. Последнее не позволяет относиться к ней с позиций сугубо абстрактной рационализации по принципу «один размер подходит всем», безотносительно к тому, какой именно теоретический «размер» выбирает исследователь. В этом смысле международные отношения переходят скорее в категорию искусства. Но искусство также доступно для того, чтобы его изучать и систематизировать, надо только определить, что может стать для этого отправной точкой. Здесь на первый план выходят вопросы эпистемологического характера, они призваны охарактеризовать наиболее важные элементы, формирующие базовые внешнеполитические навыки «художника», включая его индивидуальное восприятие окружающего мира.
С практической точки зрения это помогает понять встроенные в культуру ограничители способности государств к достижению компромисса «между мнением нации о себе и мнением о ней окружающих», необходимого, по мнению Киссинджера, для достижения сравнительно прочного международного порядка[5]. Сравнивая стратегические культуры народов, желательно понимать, при каких условиях они будут готовы смириться, что их возможности не безграничны, и насколько устойчивой окажется такая готовность в исторической перспективе.
Недавняя российская история даёт несколько убедительных примеров, когда признание собственной слабости не могло привести к прочному миру, поскольку наши «глубинные» представления о своём месте в мировых делах основаны на исключительно солидном фундаменте. Сейчас необходимо понимать ограничители, встроенные в политическую культуру оппонентов России на Западе, ориентируясь не только на их публичные заявления в условиях острого международного кризиса.
Самоотождествление как решающий фактор
Отправной точкой является историософия изучаемого явления. Она направлена на познание и осознание сущности национально-исторической судьбы, создающей эмпирическую основу объекта нашего исследования – внешней политики того или иного государства. Последовательность событий, их взаимосвязь и – как результат – обусловленность формируют идентичность, которую, если обратиться к определению Доминика Ливена, «можно в определённой степени рассматривать как вращающуюся вокруг двух полюсов: политического и культурного. В первом случае первостепенное значение имеют государство и его институты, возможно, прежде всего вооружённые силы, а также связанные с ними воспоминания, мифы и символы. Во втором на первый план выходят язык, народные обычаи, религия и ценности»[6]. Историзм, как мы видим, присутствует как в политическом, так и в культурном измерении этой категории: институциональная память, разделяемая мифология, обычаи и ценности формируются через усвоение определённого опыта. Можно предположить, что чем более тяжёлым для выживания государства является такой опыт, тем более важное место занимают созданные им паттерны поведения.
Приведём пример: на первый взгляд стратегические воззрения советских вождей – от Ленина до Горбачёва – имеют к русской внешнеполитической культуре примерно такое же отношение, как логика постапокалиптического «Безумного Макса» к Аристотелю или Фукидиду. Это сравнение не ставит целью принизить достижения эпохи СССР в общем течении российской истории. Более того, оно отвечает некоторым объективным особенностям советского периода, начало которого характеризуется наиболее резким разрывом формальных культурных связей с предшествовавшей традицией государственности.
Потому так велик соблазн рассматривать советский период «с чистого листа», отдельно от остальной русской истории, как будто стратегическая культура советских вождей – это сорняк, привнесённый неведомым ветром.
К этому, кстати, опосредованно призывали сто лет назад яростные реформаторы российской науки и образования Анатолий Луначарский и Михаил Покровский[7]. Такой подход соблазнителен и потому, что избавляет от необходимости думать о фундаментальной причинности событий в пользу абсолютизации человеческого волеизъявления, на чём настаивали модные в прошлом веке Исайя Берлин или Карл Поппер[8].
Однако более научным будет, понимая существующие особенности времени и действующих героев, учитывать и то, на что обращают внимание наиболее авторитетные авторы. Последние, кроме всего прочего, исходили из конкретных задач понимания внешней политики СССР на важнейшем для международного порядка этапе после Второй мировой войны. Речь о сохранении в этой политике моделей поведения, значимость фактической основы которых официальная советская историография игнорировала. Умевший их увидеть сторонний наблюдатель Джордж Кеннан чётко указывает в своём эссе на имплицитную связь исторических переживаний русского народа и стихийного стратегического замысла советских властей. Культура как продукт исторического процесса органично переплетается у него с теми особенностями поведения, что были присущи советским руководителям в силу их идеологических мотивов, социальной среды происхождения, образования и конкретных внешнеполитических обстоятельств[9].
Кеннан указывает на основные особенности политического режима Советского Союза, его сильные стороны и слабости применительно к внешней политике, но этим не ограничивается. Основные черты стратегической культуры руководителей сталинского СССР, согласно Кеннану, связаны с «уроками истории России, где на протяжении веков на обширных просторах неукреплённой равнины велись малоизвестные сражения между кочевыми племенами. Здесь осторожность и осмотрительность, изворотливость и обман были важными качествами; естественно, что для человека с русским или восточным складом ума качества эти имеют большую ценность»[10]. Заметим, что стратегия «Кремля» тем самым перестаёт быть делом исключительно персонифицированным – через связь с русской историей автор показывает не только её глубокую историческую причинность, но и национальную природу. Что, собственно говоря, помогает определить те самые базовые навыки «художника», а также взаимодействовать на абстрактном уровне с деперсонифицированной внешней политикой новейшего времени.
Ход мысли Кеннана не удивителен для представителя страны, где в центре внешнеполитической философии находится историософская концепция «града на холме», восходящая к духовному сочинению первой половины XVII века[11]. Американцы ведут себя тем или иным образом (отвечают на вызовы своему государству со стороны международной системы) в первую очередь потому, что их реакция детерминирована почвой, на которой произрастает дерево национальной «большой стратегии». Это самое убедительное доказательство «народности» американской внешней политики вне зависимости от конкретных политических фигур, принимающих решения: их воли, образования и тому подобного. Поэтому мы, сами не замечая того, с лёгкостью указываем на связь внешнеполитических решений в Соединённых Штатах с их внутренней политикой и национальной культурой.
В случае России дело обстоит так же. И всего через двадцать лет после драматических событий 1917 г. укоренённость проявляется в образах, которые становятся для государства наиболее приемлемыми в диалоге с народом по главным внешнеполитическим вопросам. Страна и политический режим готовятся вступить в новое, намного более жестокое военное противостояние, и уже в 1938 г. скачут по экрану инфернальные тевтоны Сергея Эйзенштейна, а в 1941 г. первая строфа «Священной войны» призывает русских людей на битву «с проклятою ордой». В принципе, этого было бы достаточно для того, чтобы убедиться в центральном значении нашей средневековой истории для формирования символов, на которых основана внешнеполитическая культура России.
Обращение к историософии внешнеполитического поведения государства позволяет приблизиться и к решению проблемы взаимосвязи между внешней политикой и конкретным политическим режимом: такой связи нет. Но присутствует чёткая связь между историческим опытом и внешней политикой, хотя она и может быть опосредована индивидуальными особенностями лидеров или их оценкой своих силовых ресурсов. Исторические особенности развития государственности формируют причинность поведения (Россия, Америка или Китай ведут себя так, потому что их история отношений с другими народами протекала в определённых уникальных условиях) и фундаментальные убеждения о себе, с перспективы которых лидеры смотрят на окружающую действительность. То, что Эдвард Луттвак определяет как «самоотождествление» правящей элиты, обеспечивающее её моральную стойкость в период кризисов, играет более важную роль, чем текущие обстоятельства и располагаемый силовой потенциал[12].
История России после 1991 г. – прекрасная иллюстрация значения данного феномена для внешнеполитической культуры. Она, как и поведение её предшественника СССР, насквозь детерминирована пространственно-историческими особенностями развития и сформировавшимся на этой почве «самоотождествлением» как великой мировой державы, при любых обстоятельствах заслуживающей особого места в глобальной иерархии. Примерно с такими же идеями Русское государство пришло в европейскую политику на исходе XV века – менялись только наши технические возможности доносить до других эту естественную для русской внешнеполитической культуры убеждённость.
Внешнеполитический аспект стратегической культуры
Мы видим, что интересующий нас феномен гораздо шире, чем популярное определение стратегической культуры в работе Джека Снайдера, связывающее её исключительно с проблематикой ядерного оружия[13]. Данная интерпретация имеет право на существование, поскольку в военно-стратегической сфере могут проявляться важнейшие черты всего стиля взаимодействия с другими народами. Но недостаточна, если мы хотим понять природу внешней политики как культурного феномена. В первую очередь потому, что данная сфера деятельности неизбежно подчинена политическому целеполаганию и общей политической культуре общества и государства.
В самом широком смысле внешнеполитическая культура представляет собой комплекс верований, практик и ожиданий, формирующий способность её носителей создавать допущения о пределах возможного и поступать на их основе, а также определяющий формы и символы, в которых выражается их поведение в отношениях с другими народами[14]. Формирование такого комплекса происходит в ходе исторического процесса. Он является атрибутом всех представителей определённой политической культуры безотносительно их положения в рамках конкретного социума и возникает в ходе накопления им исторического «жизненного» опыта.
Русскому человеку периода СССР «было трудно определить, где кончается Россия и начинается империя, поскольку он продолжал вековую миграцию своих предков через степь» точно так же, как это не удавалось его предкам на протяжении нескольких сотен лет, или не удаётся нам, когда мы сейчас пытаемся сформулировать подход к странам-соседям[15]. Добавим, что любимая всеми западными русистами степь в нашем случае не является отправной точкой, хотя и представляет собой наиболее романтически окрашенный образ. Формирование основы великорусского этноса происходило в XI–XII веках в результате миграции славянского населения с берегов Днепра в лесистое междуречье Волги и Оки[16]. Колонизация эта была одновременно крестьянской, княжеской и монастырской, что также вело к появлению общенародного восприятия пространства в развитии русской государственности. Вопрос, таким образом, не в конкретном ландшафте, а в том, что он даёт внешнеполитической культуре. В данном случае – отсутствие чувства границы, столь ярко выраженное у европейцев. Исторический факт состоит в том, что возникновение великорусской народности в XI–XII веках стало результатом не ограниченного естественными барьерами движения славянского населения на Северо-Восток от Днепра.
Реализация внешнеполитической стратегии государства является производной от комплекса верований, практик и ожиданий, «выступает выражением всей культуры в целом», примеры чему мы находим в работах, посвящённых стратегии отдельных великих держав[17]. Вряд ли можно убедительно обосновать, почему Россия здесь стала бы исключением из общих правил. Задача исследователя, таким образом, состоит в систематизации «верований, практик и ожиданий», которые свойственны именно уникальной, как и любая другая, российской внешнеполитической культуре. История отношений России с другими народами помогает определить происхождение этих связей на основе доступного фактического материала: того, чем «эмпирически была Россия» в международном окружении[18]. Тем более что выбор интерпретаторами следующих поколений фактов, достойных стать историческими событиями, зависит от унаследованной ими политической культуры.
Историософия российской внешней политики представляет собой предмет, важный для понимания положения России в международных делах, но напрямую недостаточно освещённый отечественными и зарубежными авторами. Сложно сказать, чем это обусловлено, но первое, что приходит на ум – присущая отечественной историографии связь общеполитического развития государства и его поведения на международной арене. В наиболее масштабных работах важнейшие вопросы эволюции внешней политики рассматриваются «по касательной», а основная задача – предложить читателю научную концепцию развития нашей государственности в целом, что впервые попытался сделать Сергей Михайлович Соловьёв в своей «Истории России с древнейших времен»[19]. В результате, однако, получается обратное: природа российской внешней политики обсуждается в рамках самой важной для всей историософии русской государственности дихотомии «Восток – Запад», имеющей объективно внешнеполитическое происхождение.
То же можно сказать и о других важнейших вопросах общей истории России – норманнском, монгольском и петровских преобразованиях, они также наиболее тесно связаны с международными факторами развития страны. В первом случае главный предмет споров – вероятность внешнего импульса происхождения древнерусской государственности, во втором – наличие или отсутствие ордынского влияния на её становление в современном географическом очаге, в третьем – значение иностранных институтов, привнесённых Петром Великим в русское общество.
Историософия страны-цивилизации выстроена вокруг обсуждения проблем почти исключительно внешнеполитического характера, имеющих фундаментальное значение для представлений о дальнейшем историческом процессе.
Другими словами, все основные дискуссии о том, что есть Россия, проистекают из её отношений с другими народами.
И сейчас наиболее живой интерес у российской аудитории вызывают международные вопросы. Это качественно отличает нас от соседей на востоке или западе: наибольшее впечатление на обывательском уровне традиционно производит то, что «там они совершенно не интересуются внешней политикой». В России это сложно понять, поскольку речь идёт о том единственном, что мы можем обсуждать действительно общенародно.
Рискнём предположить: для России развитие государственности и взаимодействие с соседями наиболее тесно связаны между собой, потому что государство оказалось продуктом внешнеполитической необходимости. Один из основоположников российской геополитики Матвей Любавский писал: «Природа страны с самого начала нашей истории вовсе не содействовала образованию из Руси единого и тесно сплочённого государства, а, наоборот, обрекла русское население на более или менее продолжительное время группироваться в мелких союзах, тяготеть к местным средоточиям, проникаться местными привязанностями и интересами, местными стремлениями»[20]. Единственной функцией сильного государства могла быть оборона народа от внешних врагов – все остальные задачи русский человек мог решать самостоятельно либо в составе небольших коллективов. Что, собственно говоря, и стремился делать вплоть до того момента, когда трагические последствия продолжения этой практики стали очевидны и последовала «божья кара» в виде Батыевых полчищ. После этого «земля Русская поручила свою защиту государству»[21], выполняющему самую необходимую функцию для сохранения рамки повседневности – решение внешнеполитических задач[22]. Вторгаясь в жизнь «земли», государство берёт то, что ему нужно для исполнения этой задачи в условиях постоянного недостатка собственных ресурсов.
В России внешняя политика (стратегия) и политика как таковая находятся в постоянном диалектическом взаимодействии. Связанная с историческим опытом русская одержимость идеей государства – продукт географических и исторических обстоятельств и одновременно мать подчинения внешнеполитической стратегии политике. По определению Николая Бердяева, в России «всё превращается в орудие политики», задача которой – сохранение государственности в пространственных условиях, которые этому совершенно не способствуют[23]. В свою очередь, внешняя политика является двигателем её развития.
Первый период расцвета русской духовной и материальной культуры в XIV – начале XV века, символами которого являются Сергий Радонежский и Андрей Рублёв, связан с осмыслением драматических событий середины XIII столетия. Появление доктрины «Москва – Третий Рим» и вытекающей из неё концепции государства в России в начале XVI века спровоцированы угасанием и гибелью Византийской империи за полвека до этого. Ферраро-Флорентийский собор (1438–1445 гг.) привёл к автокефалии Русской православной церкви и избранию митрополита Ионы на соборе русских епископов в 1448 г.: важнейшему событию в истории нашей государственности. Самый значимый спор русской философии XIX века, между западниками и славянофилами, формально не связан с вопросом внешнеполитического происхождения – петровскими реформами, как инструментом военной победы над шведами. Такая интерпретация преобразований начала XVIII века появляется только в работах Ключевского. Однако он стал основополагающим для упомянутой выше главной дихотомии историософии русской государственности, имеющей внешнеполитическую основу.
Находящиеся в диалектическом взаимодействии внешняя политика (стратегия) и политика как таковая в России не просто связаны, но едины. Возможно, поэтому России свойственны «византийские» особенности стратегии как прикладной деятельности: подчинение военной силы дипломатии и политическим задачам, стремление избегать войны, но действовать так, будто она может начаться в любое время, замена «не-битвой» манёвров войны на уничтожение, стремление терпеливо подтачивать материальную и моральную силу врага уже в ходе конфликта[24]. И всё это помножено на заданную природой Великороссии монотонность и отсутствие чётко выраженных границ между сезонами.
Сам «московский» стиль боевых действий – неопределённо долгое изматывание противника в ожидании момента для атаки – всегда оставляет «окно возможностей» для мирного решения.
За исключением Отечественных войн 1812 и 1941–1945 гг. русская военная история практически не знает решительных побед в ходе одной кампании. Новый статус достигался в результате нескольких столкновений с неопределёнными результатами. Гибель противника, как это произошло с Польшей или Крымским ханством, была завершением не решительного военного похода, а совокупности политических действий, сопровождавшихся применением силы. Именно так прекратились даннические отношения Русской земли и Большой Орды в конце XV века: «благоразумнейшая, на дальновидной умеренности основанная для нас система войны и мира» Ивана III сочетала военные действия, политические отношения с противником и консолидацию русской государственности в меняющихся условиях[25]. И хотя внешнеполитическая стратегия советских вождей опиралась на негодное социально-экономическое устройство, во всём остальном она обнаруживала важнейшие паттерны, сформированные за несколько столетий, изменить которые невозможно.
От прототипа к постоянству
Проблематику внешнеполитической культуры России рассматривают в общеполитическом контексте выдающиеся историки начиная с «последних летописцев» Василия Татищева и Николая Карамзина, и далее через историософские труды Николая Данилевского, Василия Ключевского и Георгия Вернадского, философские работы Николая Бердяева к авторам советского периода и тем, кто стремится к пониманию различных мотивов внешней политики России на современном этапе развития историографии[26]. Среди последних необходимо отметить работы Андрея Цыганкова, уделяющего наиболее значительное внимание среди наших современников условно «цивилизационному» происхождению отечественной внешней политики[27].
Среди зарубежных исследований несколько наиболее выдающихся работ принадлежат британскому историку Доминику Ливену. В книге «Российская империя и её противники» он проводит сравнительный анализ развития нескольких крупных империй – Российской, Австро-Венгерской, Британской и Османской, стремясь выявить общее и различное в их развитии на основе сравнительной динамики в конкретных исторических и географических условиях[28]. Для автора, как и для любого историка, важнейшим является вопрос, почему империи поступают тем или иным образом в своей внешней политике и вопросах внутреннего управления.
Исторический период, рассматриваемый в этой работе Ливена, начинается с XVI века, когда Россия, по мнению уважаемого автора, перестала быть «улусом Золотой Орды» и вышла на европейскую политическую сцену. Но в реальности ограничиться очерченным отрезком времени у него не получается: большая часть базовых факторов, формирующих российскую имперскую государственность – отношения с пространством, способ управления полиэтничностью, формирование государства как администрации, – сопровождаются отсылками к более раннему периоду. Рассуждая о факторах, определявших развитие Российской империи, автор последовательно перечисляет то, что ей предшествовало.
Это и интересно в работе Ливена с историософской точки зрения. Сам не обязательно желая того, он буквально вытягивает санкт-петербургскую империю из первоначальной «московской» государственности, особенности внешней политики которой его мало интересуют. Хотя и упускает, ввиду недостаточного любопытства к соответствующему историческому материалу, такие важные события, как создание Касимовского царства в середине XV века – первый пример интеграции мусульманской аристократии в военную организацию Великого княжества Московского. Сам феномен этой аристократии он считает одним из центральных в русской имперской традиции. Для Ливена здесь важна империя и её элита.
Для историософского взгляда на российскую внешнюю политику значение имеет способность на равных интегрировать вчерашних противников.
Главное, что мы видим в блестящей работе Ливена, насколько непрерывна история российской внешней политики, причина чего – накапливаемая внешнеполитическая культура. К этому вопросу автор обращается в статьях «Российская империя и СССР как имперские политические организации» и «Русская, имперская и советская идентичности», которые мы цитировали выше. Прочтение этих работ позволяет рассмотреть интересный парадокс, характерный для всей историософии русской внешней политики: отмечая фундаментальные особенности русской политической культуры на каждом из интересующих его отрезков истории, автор неизбежно обращается к «вечным» факторам, заложенным на самом раннем её этапе.
Установить эти факторы не является задачей Ливена, но именно его работы наиболее системно позволяют увидеть то, что Василий Осипович Ключевский определяет как «встречную работу прошлого»[29]. Для Ливена – аксиома, что «российская государственность и российская политическая идентичность обязаны своим происхождением московской ветви династии Рюриковичей, созданному ими государству, аристократическим родам, господствовавшим в нём на протяжении веков, и территориям, над которыми они властвовали»[30]. Уникальное собственное положение автора помогает ему намного лучше, чем многим российским коллегам, увидеть преемственность русской политической культуры и её обусловленность историко-пространственными факторами, заложенными на самых ранних этапах развития нашей государственности.
Так, для работ Ливена не свойственны попытки запихать историю в теоретическую схему, что отличает большинство авторов в западном академическом сообществе[31]. Вместе с тем Ливен не является и частью российской культуры, которой порой свойственно либо ограничиваться взятыми у классиков оценками особенностей национальной внешней политики, либо вообще не уделять им существенного внимания. Рационализация того, чем (по выражению Николая Бердяева) «эмпирически была Россия», исходя из определённых для неё Творцом географических и исторических особенностей развития государственности, не присуща отечественной историографии.
Однако именно рационализация представляется верным путём в решении задачи, которую мы перед собой ставим: перекинуть устойчивый к конъюнктурным политическим веяниям мостик между русской историей и российской внешней политикой. Если мы сможем это сделать, реальные события будут намного реже вызывать разочарование у интеллектуального сообщества. Меньше станет и обид, связанных с несбыточными мечтаниями, как должна быть устроена практика отечественной дипломатии. Главное – не уйти в крайность теоретизирования, отличающую западных коллег, но уже с другой – национальной – перспективы. Право факта, о центральном значении которого пишет Александр Пресняков[32], состоит в том, что Москва расположена в районе истока множества рек, а первые несколько поколений её князей то воевали, то сотрудничали с татарами, которых искренне считали «погаными» и наказанием Божьим. Право факта состоит в том, что даже при отсутствии предварительного сговора между основными противниками Руси в середине XIII века они атаковали её практически одновременно в интервале 1237–1242 гг., а силовые возможности и демография Русского государства в середине XVI века требовали интеграции мусульманского населения из практических, а не абстрактных соображений. Право факта состоит в том, что петровские реформы решали задачи внутриполитического и внешнеполитического характера в едином комплексе. И так далее, включая обстоятельства, не самые приятные для патриотического сознания, либо противоречащие идеальным схемам евразийцев и либералов.
Эти факты мы собираем по крупицам в богатейшей отечественной историографии и самой древней в Восточной Европе и Северной Евразии литературе на национальных языках. На их основе можем надеяться создать сравнительно целостную систему представлений, что формирует способность носителей русской политической культуры «создавать допущения о пределах возможного и поступать на их основе» в международных отношениях. А поскольку исторический путь российской государственности с начала XIV века непрерывен, то за исключением создания прототипа все исторические факты и переживания дополняют предшествующие, но не заменяют их. Впечатления одних поколений становятся, по определению Ключевского, верой следующих за ними. И то, как Запад нарушил неформальные обещания, дававшиеся в конце холодной войны, будет впечатано в русскую внешнеполитическую культуру точно так же, как любой другой значимый исторический опыт. Задача, как можно предположить, просто «освоить и понять прошлое как ключ к пониманию настоящего»[33].
Именно в российском случае историософия внешней политики в тесной связи с её историей и географией представляется наиболее интересной. Во-первых, потому что она является одной из двух мировых держав с непрерывной на протяжении более чем 550 лет суверенной государственностью, возникшей на основе прототипа в виде Великого княжества Московского. Во-вторых, Россия пережила за это время четыре изменения формального стиля внешней политики как государственной деятельности. Первый раз от великокняжеского к царскому (середина XVI века), второй – от царского к имперскому (начало XVIII века), третий – от имперского к советскому (начало XX века) и, наконец, четвёртый – от советского – к современному российскому (конец XX века). Так что российская история предоставляет исследователю достаточно материала, позволяющего рассуждать о взаимодействии «старины и реформ»[34].
В силу того, что на два последних перехода в прошлом веке мы смотрим, как современники событий, они представляют наибольший интерес и актуальность. Мы неизбежно сталкиваемся с проблемой того, что помним (или считаем, что помним) возможности выбора и связываем неудачи или достижения с присущими только им историческими обстоятельствами. Необходимо признать, что это конкретное прошлое было наполнено живущим в нём собственным прошлым, как бы нам ни хотелось разделить историю на этапы, до начала которых «всё можно было бы исправить». Практическая значимость такого признания с точки зрения патриотического стремления повлиять на национальную внешнюю политику достаточно очевидна. Она состоит в том, что нашим рекомендациям крайне желательно учитывать состав почвы, на которой эта внешняя политика произрастает не меньше, чем текущие институциональные формы, предназначенные для её реализации.
СНОСКИ
[1] Waltz K. Theory of International Politics. Boston, MA: McGraw-Hill, 1979. P. 71.
[2] Carr E.H. The Twenty Years’ Crisis: 1919–1939. L.: Macmillan, 1939. 247 p.
[3] См.: Acharya A., Buzan B. Why is There No Non-Western International Relations Theory? An Introduction // International Relations of the Asia-Pacific. 2007. Vol. 7. No. 3. P. 287–312; Acharya A. Global International Relations (IR) and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies // International Studies Quarterly. 2014. Vol. 58. No. 4. P. 647–659; Bleiker R. Forget IR Theory // Alternatives: Global, Local, Political. 1997. Vol. 22. No. 1. P. 57–85; Bilgin P. Thinking Past “Western” IR? // Third World Quarterly. 2008. Vol. 29. No. 1. P. 5–23.
[4] Караганов С.А. Искусствоведческое эссе о будущем российской внешней политики // Россия в глобальной политике. 2022. T. 20. No. 1. С. 52–69.
[5] Kissinger A. The Congress of Vienna: A Reappraisal // World Politics. 1956. Vol. 8. No. 2. Р. 264–280.
[6] Lieven D. Russian, Imperial and Soviet Identities // Transactions of the Royal Historical Society. 1998. Vol. 8. P. 254.
[7] Дворниченко А.Ю., Кривошеев Ю.В. Изгнание науки: российская историография в 20-е – начале 30-х гг. XX века. В кн.: Ю.В. Кривошеев (Ред.), Собранное. СПб.: Владимир Даль, 2010. С. 230–258.
[8] О том, насколько нужно быть бдительными при обращении к таким ярким мнениям об истории, напоминает комментарий Карра: «Даже когда Исайя Берлин говорит нелепицу, он заслуживает снисхождения из-за того, что говорит о ней таким занимательным и привлекательным образом. Ученики повторяют нелепицу, но в их устах она не звучит столь привлекательно». См.: Carr E.H. Op. cit. P. 109.
[9] Кеннан Дж. Истоки советского поведения // США: экономика, политика, идеология. 1989. No. 12. C. 42–52.
[10] Там же.
[11] Morgan E.S. John Winthrop’s “Modell of Christian Charity” in a Wider Context // The Huntington Library Quarterly. 1987. Vol. 50. No. 2. P. 145–151.
[12] Луттвак Э. Стратегия Византийской империи. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2010. С. 576.
[13] Snyder J.L. The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 1977. P. 8.
[14] Keenan E.L. Moscovite Political Folkways // The Russian Review. 1986. Vol. 45. No. 2. P. 115–181.
[15] Lieven D. Op. cit. P. 261.
[16] Любавский М.К. Историческая география России в связи с колонизацией. М.: Типо-литография В.И. Титяева, 1909. С. 77.
[17] Луттвак Э. Указ. соч. С. 590.
[18] Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли века и начала века. В кн.: М.А. Маслин (Ред.), О России и русской философской культуре. Философы русского зарубежья. М.: Наука, 1990. С. 43.
[19] Соловьёв С.М. История России с древнейших времен. М.: Соцэкгиз, 1959–1966.
[20] Любавский М.К. Указ. соч. С. 78.
[21] Записка К.С. Аксакова «О внутреннем состоянии России», представленная государю императору Александру II в 1855 г. В кн.: Русская социально-политическая мысль. 1850–1860-е годы. Хрестоматия. М.: Издательство Московского университета, 2012.
[22] Тесля А.А. Концепция общества, народа и государства И.С.Аксакова (Первая половина 1860-х годов) // Полития. 2013. No. 1. С. 65–79.
[23] Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Издание Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1918. С. 6.
[24] Луттвак Э. Указ. соч. С. 584–586.
[25] См.: Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 6. М.: Книжный сад, 1990. С. 218–219; Борисов Н.С. Иван III. Отец русского самодержавия. М.: Академический проект, 2018. 619 с.
[26] См.: Бердяев Н.А. Указ. соч.; Будовниц М.Н. Общественно-политическая мысль Древней Руси. М.: Издательство Академии наук СССР, 1960. 488 с.; Вернадский Г.В. Начертание русской истории. М.: Алгоритм, 2008. 336 с.; Гумилёв Л.Н. От Руси к России. М.: АСТ, 2003. 397 с.; Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991. 573 с.; Каргалов В.В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. Феодальная Русь и кочевники. М.: Высшая школа, 1967. 263 с.; Томсинов В.А. История русской политической и правовой мысли. X–XVIII века. М.: Зерцало, 2003. 255 с.
[27] См.: Цыганков А.П. Внешняя политика России от Горбачёва до Путина. Формирование национального интереса. М.: Научная книга, 2008. 270 с.; Tsygankov A. Russia’s Foreign Policy : Change and Continuity in National Identity. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2006. 217 p.; Tsygankov A. Assessing Cultural and Regime-Based Explanations of Russia’s Foreign Policy. “Authoritarian at Heart and Expansionist by Habit”? // Europe-Asia Studies. 2012. Vol. 64. No. 4. P. 695–713.
[28] Ливен Д. Российская империя и её враги с XVI века до наших дней. М.: Европа, 2007. 678 с.
[29] Ключевский В.О. Памяти С.М. Соловьёва / В.О. Ключевский // Сочинения в восьми томах. Том 8. Исследования, рецензии, речи (1890–1905). М.: Издательство социально-экономической литературы, 1959. С. 117–132.
[30] Lieven D. Op. cit. P. 255.
[31] См.: Hedlund S. Russian Path Dependence. L.: Routledge, 2005. 394 p. Также коллекцию примеров подобных оценок можно найти здесь: Blank S.J. (Ed.) The Sacred Monster: Russia as a Foreign Policy Actor. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute – US Army War College, 2012.
[32] Пресняков А. Образование Великорусского государства. М.: Центрполиграф, 2023. С. 7.
[33] Карр Э. Что такое история? М.: Прогресс, 1988. С. 33.
[34] Ключевский В.О. Указ. соч.